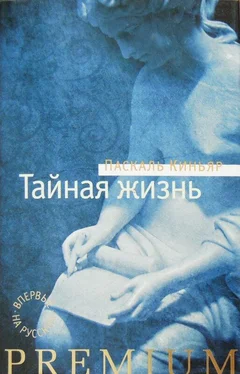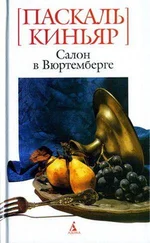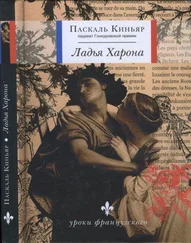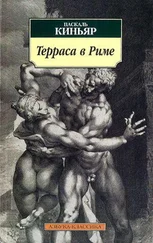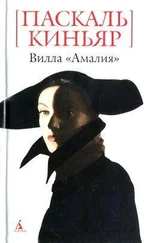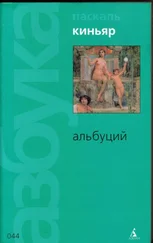И наоборот, в темноте он вожделеет.
Гипногогия — это загадочное испытание. Она предполагает колоссальную потерю непроницаемости.
Когда человек засыпает, последние четверть секунды для него — это точка воспарения в пространстве. Я настаиваю на том факте, что язык называет точкой то, что не имеет измерений.
В тот миг, когда граница между бодрствованием и ночным гипнозом начинает разрушаться, исчезает и граница между внутренним и внешним.
Кожи больше не существует, она истончается с головокружительной скоростью. Порог между Внутри и Вне сломан и перейден.
В этот момент космического головокружения лишенное кожи, границ и ног «я» (оно распростерто и парит), поглощая все, что его окружает, само полностью поглощено неким подобием рта, или полости, или таинственной пещеры.
Это стоит подчеркнуть: любой человек, который засыпает, ощущает себя как бы проглоченным. Этой парящей точке, уже рыхлой, но еще впитывающей в себя, представляется, будто она поглощена каким-то пространством, напоминающим свод то ли черепа, то ли вульвы.
Уснуть — это, как и любой восторг, довольно сложный опыт для некоторых людей.
*
Одно и то же слово во французском языке описывает оленя, который отшелушивает чешуйки своих рогов о стволы деревьев, и идущего на нерест против течения лосося.
Оно предшествует смерти, до пределов незнаемого, вплоть до противоположности всего того, что было ведомо. Вплоть до конца света. Вплоть до конца воды.
Человек — это лосось.
Всякое ложе — нерестилище.
Коитус — это смерть.
Еще точнее, если связать смерть и рождение, умереть — это выродиться.
Если умереть — значит выродиться, то рождающийся — это привидение.
*
Нукарпятекак развязывает действие в обратном направлении: он отдается течению. Он погружается в источник. Поглощенный источником, он дает толчок новому падению. Старый Нукарпятекак вскрыл женщину-источник, источник мочится, он снова журчит.
Нет разницы между понятиями родить, струиться, питать, возвращать весну, жизненные соки, кладку яиц и т.д.
*
Прежде чем умереть, рыбы, идущие вверх по ручью, чтобы отложить икру в струящемся источнике, краснеют, стареют, шелушатся и быстро нерестятся у начала потока.
Время больше не течет, оно отступает и внезапно описывает круг. От солнца к неожиданно возвращающемуся солнцестоянию.
Мы старые гниющие рыбы в лохмотьях, которым никогда не удастся перепрыгнуть через маленькие водопады, сделать маленький последний рывок, совершить падение, чтобы достигнуть крошечной капли воды, где отнерестились наши матери.
Рыбы, возвращающиеся в место своего рождения для нереста, — это люди в положении лицом к лицу. Женщина находится в положении родов. Мужчины залезают на женщин, чтобы в стороне от света дня и солнечного зрения в темноте и в воде излить в них молоки, — и, делая это, мы возвращаемся в место нашего рождения, мы приотворяем дверь самого древнего из домов.
*
Есть древняя любовь.
Древняя любовь обитает в недрах любви. Это не первая любовь: в эпоху древней любви у человека еще не было сформировавшегося «я», индивидуальности, речи, личности, положения и т.д. Это не была любовь, и только потом, переживая себя, но не сознавая себя, замалчивая себя, поскольку осознание и проговаривание изнутри невозможно, она стала в нас древней любовью.
Это не просто объятие — это еще и влияние. Это слияние. Это тотальная рыхлость. Это, еще прежде непреодолимого влечения, единое тело (мать-дитя) — тело, которое протягивает свои члены и в то же время готовится, стремится к повторному слиянию; это и есть неизбежное поглощение.
Охотники на лосося дают точную версию древней любви: подобно рыбе-тотему, там, где ты был зачат, ты будешь нереститься, изойдешь икрой и умрешь. Откуда ты вышел, то тебя и поглотит. В сексуальность и смерть ведет одна и та же дверь.
История Нукарпятекака движется по кругу подобно тому, как завороженность принимает форму солнечного полукруга. Зубры эпохи палеолита вывихивают себе шею, чтобы увидеть, что они из себя извергают. Любовь — это контакт с непрерывностью. Когда заблудившийся находит утраченное, оно его поглощает.
*
У эскимосов общество дублирует нерестилище: и смерть стариков, и рождение детей — это коллективные решения. Можно убивать стариков, как только у них отобрали их имя (как только их лишили имени). Можно убивать детей при рождении, если им не дали имени. Сколько мертвецов, столько и свободных имен. Сколько имен, высвобожденных смертью, столько и живых от зари мира. Если новорожденных больше, чем свободных имен (если рождающихся детей больше, чем стариков в ожидании смерти), их бросают собакам (а они-то имеют имена, потому что с ними — как с охотниками: собаки лишними не бывают). Речь — это общество. Настоящий сказитель мифов — это группа, а не говорящий. Как раз запас имен (даже не подсчет членов группы) и производит отбор социальной группы, будь она человеческая или собачья.
Читать дальше