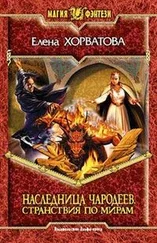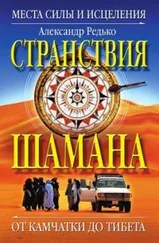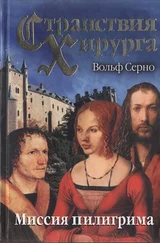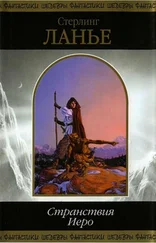Перед началом мирового турне в 1935 году меня преследовала мысль, что я больше не в состоянии объяснить, почему играю те или иные места определенным образом, могу только сказать, как я их играю. Хотя мой репертуар был досконально проработан с учителями, их комментарии, подобно строительным лесам на глухой стене, только создавали иллюзию окон. Правда, когда приходило время исполнить какой-нибудь концерт или сонату, я сразу же находил к ним подход и своим пылом захватывал слушателей, но этот успех не был моим, а объяснения других годились лишь в качестве рабочей гипотезы и только до того момента, пока я сам для себя их не обосную. Подобную попытку я впервые предпринял в течение двухнедельного перехода по Индийскому океану из Австралии в Южную Африку, из Перта в Дурбан.
Мы плыли на “Несторе”, небольшом комфортабельном стареньком судне компании Blue Funnel Line [8] Blue Funnel Line — ныне не существующая британская пароходная компания, одна из крупнейших в мире в XIX — начале XX вв.
— одном из последних угольных пароходов, остававшихся к тому времени на плаву. Окна каюты выходили на прогулочную палубу, так что мы смотрели не на бесконечные волны, а на пассажиров, то спускающихся, то поднимающихся по трапу. Однажды, в перерыве между наблюдениями и занятиями, я решил разобрать одну из композиций, чтобы по возможности подтвердить свою интерпретацию. Примечательно, что это была соната для скрипки и фортепиано, которую мы играли с Хефцибой. Знакомством с ней я обязан великому французскому пианисту Альфреду Корто, у которого однажды побывал еще во времена Виль-д’Авре. Он жил в квартире на авеню де Вилье и собрал внушительную музыкальную библиотеку, на стеллажи которой надо было подниматься по узкой железной лесенке, что само по себе напоминало о бескорыстной радости учения, — на бескрайних книжных полках тебя ждали необозримые богатства. Среди прочих находок я наткнулся на сонату Гийома Лекё, бельгийского композитора, персонажа, весьма характерного для французской истории: многообещающие способности, трагическая судьба и ранняя смерть — Божий дар не спасает от беспощадной болезни или несчастного случая. Эту романтичную сонату часто исполнял Эжен Изаи, и по совету Корто я включил ее в свой репертуар. Мы с Хефцибой ее записали.
Конечно, мы исполняли ее по наитию. Во время того же турне в Веллингтоне (Новая Зеландия) мы репетировали другую сонату, не Лекё, и помню, как поздравляли друг друга; наше исполнение я называл про себя исполнением “по-американски”. Под этим я понимал уверенность, блеск, техническое совершенство, которое, по моему опыту, так ценит американский слушатель. Играть совершенно, но при этом не понимая, что, как и почему, — этого мне было уже недостаточно. Мне уже не хватало элементарного музыкального анализа, определяющего экспозицию, разработку, репризу и коду и фиксирующего ряд модуляций в той или иной мажорной или минорной тональности. Подобным образом можно описать и человека: пара рук, пара ног, черты лица, вес такой-то, волосы темные, глаза карие. Вот только самого человека мы не увидим. Подобно биохимику, открывшему, что каждая клетка содержит информацию об организме в целом, я должен был понять, почему в данной сонате оказались именно те, а не иные ноты; и, что гораздо важнее, я намеревался сделать эти выводы сам, без готовых объяснений, без подсказки, познакомиться с автором напрямую, без посредников. Мне предстояло проследить вдохновение Лекё от первой ноты ко второй, к третьей и так до конца, объяснить себе, как и почему появляется следующая, и таким образом обосновать характер отдельных фраз, темп, силу звука и соотношение между всеми этими факторами.
Результаты исследования вдохновили меня углубиться дальше в мой репертуар. Вслед за Лекё “в переработку” пошли и другие часто играемые произведения, я пытался объяснить себе, почему с неизбежностью были выбраны именно эти, а не другие звуки, чтобы провести музыкальный импульс от начала до конца. Такой анализ стал необходимой привычкой, которая сохраняется и по сей день; ему должно подвергнуться каждое новое сочинение — так я подкрепляю аргументами свою интуицию. Что, впрочем, не мешает мне особенно радоваться, когда тонкости, над которым я бился долгие часы, вдруг открываются сами собой, без каких бы то ни было усилий разума.
Чтобы наглядней объяснить мой подход к музыкальному анализу, рассмотрим первые такты сольной партии из Концерта Бетховена, за который я принялся сразу после Лекё и не пожалел об этом. В детстве Бетховен был для меня олицетворением серьезности в музыке, и ни один другой концерт я не играл в столь разных местах со столь разными оркестрами (подозреваю, что никто из скрипачей не исполнял его так часто). Других мировых рекордов я не ставил, могу похвастаться только одним — исполнением Концерта Бетховена на протяжении шестидесяти с лишним лет, пусть здесь и нечему особенно завидовать, поскольку рекордсмена подстерегает опасность механических повторений. Я же считаю, что сумел избежать подобной ловушки благодаря своим попыткам постичь это произведение как единое целое.
Читать дальше