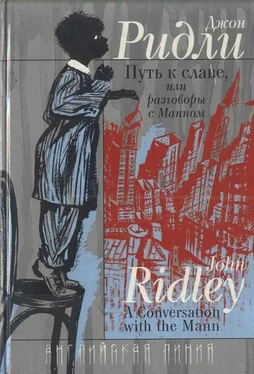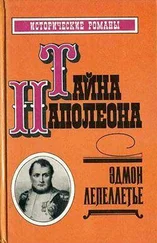Сид ничего на это не сказал. Сид просто глядел на меня… глядел на меня…
Сид ушел.
Наконец клуб наполнился народом, пора было начинать представление, и я вышел на сцену — снова вступил в эту пустоту, поджидавшую меня.
Я хорошо выступал.
Я хорошо выступал первые три минуты из моих шести с половиной. А потом я дошел до номеров, где речь шла о моем отце-пьянице. И тут не выдержал. Я не сломился и не расплакался, я не распустил нюни — ничего такого. Я просто объявил со сцены, что мой отец умер, — и моментально все смешки стихли. Обычно всегда так бывает, если начинаешь говорить в комедийном представлении о реальных людях, которые умерли. Правда, раздалось жидкое хихиканье: видно, кто-то решил, что я заготовил чертовски смешную шутку.
Ничего подобного. Меня внезапно охватил острый приступ вины, который никак не проходил. Я заговорил о том, что мой отец никогда мне не помогал, что он избивал меня, что, по моему убеждению, он свел в могилу мою мать. Я вовсе не собирался в свой первый вечер в Лас-Вегасе трепаться обо всем этом, но мое горе словно затянуло меня в канаву, из которой я никак не мог выкарабкаться. Я уже, как камикадзе, летел носом в землю. Вся эта безобразная сцена продолжалась от силы минуту. Или меньше. Но даже без малого минуты такого безумного трепа оказалось достаточно, чтобы любая толпа успела растерять улыбки. В течение следующих ста двадцати секунд я трудился как мог, старался снова отвоевать зрителей, чтобы Эдди ожидала публика, настроенная не на поминки, а на радость. Мне это удалось. Кое-как. Со сцены я уходил под смущенные и нестройные хлопки.
Джек был в ярости — я не просто запорол свой первый вечер, но еще и превратил его клуб в морг, — но Сид отвел его в сторону, объяснил ему, что байки про моего отца не были байками. Он действительно умер. Джека это не охладило, но что ему оставалось делать? Он понимал: если Фрэнку станет известно, что он устроил мне взбучку из-за того, что у меня скончался отец, тот семь шкур с него сдерет.
Пока Сид с Джеком мирились, я просто сидел молча: мне было тошно и с каждой секундой делалось все тошнее. Чувства, от которых я пытался отмахнуться, повергали меня. Чувства, с которыми я ничего общего не желал иметь. Угрызения совести, раскаяние, печаль…
Чего мне в этот момент хотелось, в чем я испытывал потребность — так это или выпить, или сесть за рулетку, или затеряться в Лас-Вегасе, погрязнуть в болоте всех тех грехов, какие тут предлагались. Но тогдашние правила предписывали мне сидеть за сценой, в гримерке, подальше от лилейно-белых расистов. Сидеть там — или отправляться к себе в Вест-Сайд.
Я подумал, не позвонить ли Томми.
Она закрутилась. Я закрутился. Прошло уже много времени с тех пор, как мы в последний раз разговаривали с ней. Я знал: стоит мне услышать ее голос — и мне сразу станет если не хорошо, то намного лучше.
Мне захотелось позвонить Томми.
Но Томми работала сейчас над записью своей пластинки. А я находился в таком настроении, что и сам опасался, как бы не вылить на нее по телефону неудержимый поток своих безумных эмоций. Через неделю, две недели — да нет, мы уже дольше не разговаривали с ней, — я вдруг вывалю ей новость об отце, наброшусь на нее, как только что на публику, со своей слабостью, слезами… Каково ей будет? Каково ей будет это вынести, как раз когда она готовится совершить решительный рывок в своей карьере? После того как я сделал все возможное, чтобы она отправилась в Детройт, — с какой стати я должен обременять ее своим безумием?
— С той стати, что она — твоя девушка, — возразил мне Сид. — А когда люди любят друг друга, они всем делятся друг с другом — и болью, и силой.
Сид делался красноречивым: к истине, которую он проповедовал, он пришел ценой личной потери.
Я слышал сквозь стену, как там, на сцене, Эдди допевает «Синди, ах Синди». Слышал, как ему хлопают, восторженно свистят. Он отвоевал публику. Каким-то одним ему известным волшебством он влюбил в себя целый зал незнакомцев.
Тихо, будто сам себе, я сказал:
— Я столько раз желал ему смерти. Правда. Я не просто желал ему зла. Я хотел, чтобы мой отец умер. А теперь…
— Я понимаю, Джеки, тебе сейчас чертовски тяжело, но это пройдет. Ты должен понять, ты должен поверить: где бы ни был сейчас твой отец, он знает, что ты его любишь. Он это знает и прощает тебя.
Я поднял голову. Поглядел на Сида, издал гулкий смешок: опять он неправильно меня понял.
— Ты не так понял мои слова. Я столько раз хотел его смерти, а он решил дождаться моего первого вечера в Лас-Вегасе, чтобы наконец помереть. Сукин сын! Даже мертвый — продолжает мне пакостить.
Читать дальше