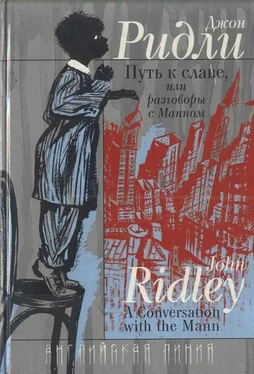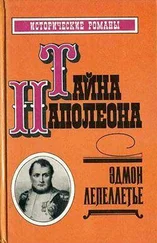Двадцать пять долларов, которых мы в глаза не видели. У каждого работника была расчетная книжка, и в конце каждой недели сотрудник компании записывал туда, сколько мы заработали, чтобы в конце лета с нами могли рассчитаться. Живых денег мы не получали. Начальство рассуждало так: раз у тебя нет на руках денег, ты не попадешь ни в какие передряги. Не поедешь в город, не напьешься. Не заберешь то, что тебе причитается, и не удерешь среди ночи. А будешь по-прежнему вкалывать. По-прежнему уважать босса — шесть дней из семи.
На седьмой день мы отдыхали. По утрам мы сбивались в религиозные группки, вместе молились или пели. Покончив с делами веры, резались в карты, курили, листали журнальчики, заказанные по почте. Поскольку выпивки не было, кое-кто взбивал коктейль из одеколона и освежающей туалетной воды. Одни получали кайф от этой смеси, другие — шанс бесплатно прокатиться в больницу.
Мы почти все время общались по расовому признаку. Изредка можно было увидеть белого с черными, еще реже — черного, затесавшегося в толпу белых. Но чаще всего и те, и другие держались особняком, причем белые — в основном белые южане — ясно давали понять, что их такой порядок вполне устраивает. Например, они болтали между собой о том о сем, о погоде, рассказывали что-нибудь из своей жизни или обсуждали, как кто-то зазевался в тот день и чуть не подставил голову боссу. Словом, они говорили о всяких пустяках, — и вдруг до тебя доносилось слово «черномазый». «Черномазый», или «негр», или «чернозадый», или «чернушка». И слово это звучало не как брань, оно входило в законченное предложение, оно употреблялось наравне с прочими, самыми обиходными названиями. Яблоко. Небо. Лодка. Черномазый. Это-то и пугало: то, как легко у них это выходило. Как буднична была их ненависть. Как глубоко въелся расизм в их сознание. Они — хорошие белые, а мы — черные собаки: вот все и расставлено по местам.
Общение между расами не поощрялось. Общение между расами осуждалось.
Был один молодой парень из Мичигана, белый мальчишка, который плевал на то, кто белый, кто черный, кто — еще какой-нибудь. Он и с теми, и с другими мог сидеть и болтать, не признавая никаких различий. Однажды ночью его схватили и уволокли в лес какие-то белые. На следующее утро его нашли голым и замерзающим, у него текла кровь из заднего прохода, куда несколько раз с жестокой силой вонзали толстый, грубый сук. Начальство только и нашлось, что сказать по этому поводу: «Не надо было с цветными якшаться», — и парня отослали обратно в Мичиган.
Общение между расами не поощрялось. Общение между расами осуждалось.
Итак, мы большую часть дня отдыхали после закончившейся трудовой недели и готовились к следующей неделе, потом всем скопом шли в столовую обедать, там ели — черные отдельно от белых, — затем снова разбредались по разделенным по расовому признаку кучкам и коротали вечер, развлекаясь песнями, игрой на гитарах, губных гармошках и варганах. Я не умел играть ни на одном из этих инструментов. Я не умел петь. Зато я умел травить байки. Уж это я умел. Ребята надрывали животики, когда я повторял номера, которые слышал когда-то в «Любимцах города», или откалывал шутки насчет нашей жизни в лагере. Все просто покатывались. Наверно, у меня смешно выходило. Во всяком случае, достаточно смешно, чтобы меня заметили. Как-то в воскресенье, после всех этих шуток, меня отозвал в сторону Дакс. Он сообщил мне, что в следующее воскресенье собирается устроить любительское представление и что у талантливых ребят есть шанс показать себя и развлечь бесталанных. Он слышал, как я откалываю шутки, и хотел узнать, не хочу ли я тоже выступить. Мне и раздумывать не пришлось. Сама мысль о том, что я буду стоять перед толпой, а люди будут кричать и хлопать мне, в точности как комикам в телевизионных передачах, — уже привела меня в восторг.
— Очень рад, — сказал Дакс. — Я подумал, хорошо, чтобы кто-то из вас тоже выступал — для остальных цветных.
Следующие дня два я пытался разработать план выступления. Радостное возбуждение отвлекало меня почти от всего, что происходило вокруг. И вот я настолько отвлекся, что мне чуть голову не снесло буксирным тросом, который падал как огромный стальной кнут. Я по сей день убежден, что мне спасла жизнь давняя привычка уворачиваться от отцовских ударов. И все-таки трос слегка задел меня. Когда мне зашивали плечо в том месте, где по нему прошелся кабель, я твердо решил, что буду отрабатывать свои шутки только по ночам, в постели. Бормоча их себе под нос, пока мое измученное тело будет молить о сне.
Читать дальше