И тут непрошеным… хуже, чем непрошеным, чертовски обличительным… является предательское воспоминание, пронзительное и странное, как падающий в спальню снег…
Его мать (их с Барретом мать, об этом надо постараться помнить) сидит на открытой трибуне, в первом ряду, на ней экстравагантной формы солнечные очки и сложно повязанный шейный платок.
Отец куда-то отошел, за колой или принести плед, который матери, по ее словам, совсем не нужен.
Сделав первый в игре первый даун, Тайлер знает, что теперь надо подойти, встать перед матерью (триумфы у него случаются нечасто) и, как гладиатор, посвятить ей свой опущенный меч, как матадор – отрезанное бычье ухо. Он в шлеме и защитной амуниции, могучий и обезличенный, с полосками черной мази под глазами.
– Эй, мам.
Ему вдруг – на мгновение – становится приятно, что он неузнаваем: в футбольных доспехах он мог бы быть сыном любой из этих женщин. Но он выбирает именно эту мать: ее огромные серьги-кольца, ее шапку стриженых черных волос, могучий магнолиевый дух ее туалетной воды. Он чувствует себя так, будто не отдает сыновний долг, а по-рыцарски поклоняется даме.
Она, разумеется, тоже в костюме. Тайлер должен соответствовать роли. Она (по ее собственным словам) – “предстать в лучшем виде”.
Она смотрит вниз с трибуны десятью футами выше задранного кверху лица Тайлера (которого почти не видно: рядом с черными заплатками глаза кажутся водянисто-серыми, над щитком, прикрывающим рот, едва выглядывает кончик носа). Рукой в кашемировом рукаве кокетливо обвила тускло-серые перила (понимает ли она, как предсказуемо выглядит, как манерно, как нарочито разодета она под какую-нибудь графиню фон Хопендорф, должна понимать, она слишком умна, у нее наверняка была какая-то тайная цель…). Она привстает, подается вперед, наклоняется к Тайлеру (в огнях стадиона бросается в глаза зернистый слой пудры, темно-розовой, цвета свежей пощечины) и говорит:
– Ты отлично играешь.
– Спасибо.
Она театрально оглядывается по сторонам, непрофессиональная актриса во второсортной пьесе, старательно изображая надежду отыскать взглядом кого-то, про кого публика знает, что он потерялся, исчез или умер.
– А где сегодня твой брат? – спрашивает она (ей приходится говорить очень громко, иначе ее не будет слышно).
Ради того чтобы усилить эффект, она снова всматривается в толпу, будто рассчитывая найти Баррета, более узнаваемого Баррета, который пришел с приятелями на футбол – посмотреть, как играет брат.
Тайлер мотает головой в шлеме. Мать вздыхает, словно хозяйка званого обеда, обнаружившая, что суп не удался, – вздох такой громкий, что его не заглушает даже шум стадиона. Тайлера в таких случаях удивляет, зачем она каждый раз так примитивно и поверхностно кого-то из себя изображает. Почему не замахнется наконец на что-нибудь более основательное и утонченное?
– Он на игры никогда не ходит, – говорит Тайлер.
– Никогда не ходит? Неужели?
– У него другие интересы.
– Вот смешной, да?
Для этой реплики трудно вообразить более неподходящий момент. К кому она обращена – к родителям Харрисберга, к чирлидерам и оркестрантам?
– Ну да, – отзывается Тайлер.
– Присматривай за ним, ладно?
– Угу.
– Мне очень не хотелось бы, чтобы он попал в беду.
– В какую беду?
Она умолкает, словно впервые задумавшись над этим конкретным вопросом.
– Не хочу, чтобы он превратился в чудака. Чтобы целыми днями просиживал в своей комнате и читал книжки.
– Все с ним в порядке, – говорит Тайлер. – В смысле, все будет в порядке.
– Хочется в это верить, – говорит она и с печальной полуулыбкой усаживается обратно на свое по-октябрьски холодное и неуютное зрительское место.
Приговор произнесен, и произносить его, конечно же, надо было с высокой трибуны. Баррет чудак. Его будут преследовать неудачи, поэтому он нуждается в заботе.
Тайлер бежит трусцой обратно на поле. Он понимает, что согласился на что-то. Но не может сообразить, на что именно. И тем не менее уже подозревает, что на него возложили нечто, что окажется ему не по силам.
Теперь, более двадцати лет спустя, остается вопрос: не слишком ли рьяно присматривал Тайлер за Барретом? Не обезоружил ли он Баррета перед жизнью тем, что всегда был понимающим старшим братом, не задавал вопросов и не осуждал?
Тайлер достает из кармана конвертик.
Упс, и тут снова тайны.
Это нужно ему сейчас, нужно для того, чтобы написать последнюю песню, но никто, ровным счетом никто этого бы теперь не одобрил – после того как у него снесло крышу (он бегал босой по Корнелия-стрит, бормоча проклятия), после долгих и болезненно-серьезных разговоров с психиатром в больнице (кто знал, что им окажется женщина с дурно покрашенными волосами и чуть прихрамывающая на одну ногу?), после курса реабилитации (который его уговорили пройти Баррет и Лиз), после таких всеобъемлющих перемен в его жизни.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу


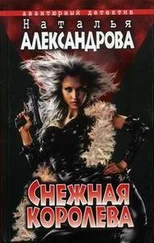







![Сергей Лысак - Снежная Королева - Шлейф Снежной Королевы. Бой Снежной Королевы. Тень Снежной Королевы [сборник - litres]](/books/398764/sergej-lysak-snezhnaya-koroleva-shlejf-snezhnoj-korol-thumb.webp)
