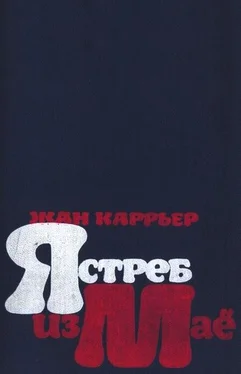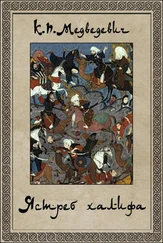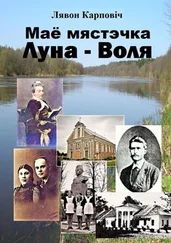Тогда-то Жозеф Рейлан и решил провести вечер в Маё, а может быть, и переночевать там: он знал, что не скоро вернется сюда — вернее, никогда не вернется, ибо порвалась связь между ним и истоками его жизни. Вместо со всеми спустился он в Сен-Жюльен, чтобы купить еды, он обнял Мари Деспек, возвращавшуюся с отцом в Мазель-де-Мор: «Вы не хотите провести ночь у нас, все-таки одному в этих развалинах…» Он, улыбаясь, покачал головой: «Я не боюсь призраков, ибо призраков не существует…» Вдруг сердце его сжалось, он увидел, как по ее лицу пробежало странное выражение, на миг возвратившее молодость и женственность ее лбу, глазам, — так горе обнаруживает в рано постаревших чертах свежесть детских огорчений.
Он купил коробку сардин (в оливковом масле, помнится), кусок колбасы, яиц, масла и местный хлеб в той самой булочной, где когда-то любовался разноцветными трубочками леденцов: «Я слышал каждое утро, как он везет свою тачку мимо моей отдушины; это было в засуху. Он пробирался, как вор, но какое мужество… Настоящее дитя природы…» Уложив покупки в нейлоновый пакет, предоставленный бакалейщиком, Жозеф часа в три-четыре пополудни поднялся наверх, встреченный уже на полпути душераздирающе прекрасными запахами растений и трав. Он вошел в дом. Итак, все трое умерли. Он с некоторой робостью обошел комнаты, снова вышел и оглядел окрестность: как быстро теперь все здесь одичает. Гигантские травы уже подступили к самым стенам и заглушали пашни; подлесок тоже разгулялся по всем вырубкам. На пораженных молнией строениях торчал терновник, черный, как обгорелое дерево. Жозеф присел на ступеньку лестницы. Все-таки нам, или, вернее, им, не очень-то повезло. Исходя из тех же предпосылок, он попытался представить себе для них лучшую жизнь: жена, дети, отец, мать, мирно стареющие у очага, вечернее возвращение с полей, мотыга на плече, радостные крики и смех домашних, общий труд и общие развлечения, идеал родового уклада, идеал возврата к простоте и естественности, когда человек на «ты» с тем, что делает; а запахи, запахи древние и неотступные, терзали Жозефу душу даже и через пятнадцать лет, в известняково-глиняном городке, изъеденном солнцем, засыпанном пометом стрижей, совсем как испанское поселение, и до сих пор эта боль не угасла, вздымалась в нем, точно обломки кораблекрушения со дна моря; и так будет до конца его дней.
Он сел поесть у двери, там, где он усадил мать в последний свой приезд, когда занявшись уборкой дома, пытался обыденными хозяйственными занятиями возродить уклад прошлого. Ночь была тихая, прохладная, уже озвученная сверчками и соловьями. Звезды были здесь не такие, как всюду. Нигде в мире не найдешь уголка, похожего на тот, где у тебя открылись глаза на мир. Ужасно и ядовито это наследие. Он закрыл глаза. Есть вещи, которых бог не должен бы себе позволять. Жозеф уже давно не верит в бога, и давно из развалин его прежнего мира что-то безуспешно взывает к нему.
Он курил до поздней ночи, выкурил сигарет пятнадцать-двадцать. Из того, что ему рассказали, и из догадок доктора Стефана он составил себе некоторое представление о том, что произошло: нельзя примириться со смертью человека, не пройдя мысленно по его следам, как бы мало их ни осталось.
Последний заряд для взрыва, видимо, был слишком велик, фитиль подожжен неловко, искра, порох занялся, он пытается бежать, слишком поздно, все взлетает, и гора обрушивается на него. Или же он наблюдает, как горит фитиль, доводя до крайности вызов судьбе.
Раздавлен, как орех в руке Всевышнего: побежден, ибо все должны быть побеждены, да исполнится воля Его.
На другое утро, перед отъездом в Швейцарию, он в последний раз поднялся к галерее (на синей заре он выполол сорняки на могилах родителей, находившихся одна — на кладбище, другая — в трагическом одиночестве, за его оградой). Он взял с собой стамеску. Надпись, должно быть, и теперь сохранилась у входа в грот, выцарапанная на самой гладкой из гранитных стен:
Выполняя эту работу могильщика-камнереза, он думал: за все, что ты не сумел взять от жизни и дать ей, приходится разом платить смерти. Он жалел, что в этот момент с ним нет одной из тех высоких девиц с шелковистыми волосами и медового цвета ногами, что, ласкал жизнь своими длинными пальцами, ярко расцвечивают секунды. Каролины, Дакоты или Вирджинии — имена у них, как у штатов Нового Света.
Горный же край никогда не даст ему ничего, кроме могилы; в глубине души он не против того, чтобы быть похороненным здесь, наверху, перед этим диким склепом, откуда сегодняшним утром было отчетливо видно голубоватое горное плато, местами покрытое наделами мягко колышущихся хлебов, ласкаемых извечно бегущими облаками.
Читать дальше