И он выпорхнул за дверь. Главач сидел ни жив ни мертв и вытирал ручьями лившийся с него пот. Господи… Ну и влип он в историю, если этот парень действительно сошел с ума.
1
Физиономия капитана Гардона окончательно приобрела зеленовато-коричневый желчный оттенок, тот противоречивый колорит, который дают жаркое солнце и стремительно развивающееся малокровие, — сочетание восковой бледности и креольского загара. Голова у него трещала целыми днями, и лишь обилие водки помогало как-то скрасить эту убийственную службу.
От безделия, бессильной злобы и раздражения Голубь стал для него настоящей манией. Еще в пустыне Гардон вбил себе в голову, что «этого подозрительного типа» необходимо уничтожить. А ему то и дело докладывают, что он как ни в чем не бывало перенес очередную смертельную пытку! Гардон бесился, что, несмотря на травлю целой команды унтер-офицеров, Голубь все еще жив, это здесь-то, где смерть раздают направо и налево! Ненависть к легионеру, которую Гардон объяснял себе бдительностью, поглотила капитана целиком, он даже забыл о других своих горестях.
Вот и сейчас Голубь попался ему на глаза. Идет и свистит! Гардон как рявкнет:
— Рядовой! Где ваш ремень?
Голубь стоит перед ним на раскаленном плацу форта.
— Я сейчас отдыхаю, mon commandant, — отвечает с»н.
— Где ваш ремень, я спрашиваю?
— После бега с выкладкой я всегда оставляю его сушиться, чтобы воск не расплавился.
— Доложите взводному, что вы вышли во двор без ремня. Rompez! [ Здесь: петля (фр.). ]
Кобенскому доставляло кучу хлопот то, что этот легионер все еще вертится под ногами. Он прекрасно понимал капитана, и уж никак не его молитвами Голубь по-прежнему оставался в живых.
Он с искаженным от злобы лицом выслушал доклад Аренкура, потом гримаса перешла в какую-то зверскую усмешку.
— Ну теперь я с тобой расправлюсь! Гнусная свинья! На двадцать четыре часа en crapaudine!
Фельдфебель Латуре пошел к капитану: даже два с половиной часа «петли» — запрещенный срок. А двадцать четыре в этом климате означают не что иное, как мученическую смерть. Он не берет на себя такой ответственности. Однако капитан устроил ему настоящий разнос:
— Мы с вами не в тылу! Здесь особые обстоятельства и многое делается против правил. Но иначе нельзя.
Латуре пошел за пленником. Тот уже ждал его в рабочей одежде… и… nom du nom… улыбался!
— Аренкур! Вас приговорили на двадцать четыре часа к «петле». Должен сказать, что я здесь ни при чем… И если… Что вы улыбаетесь! Осел! За двадцать четыре часа вы десять раз успеете умереть!
«Господи, расщедрись наконец хоть на один раз! Хоть на один», — молился про себя Голубь и был определенно счастлив.
Его повели на гауптвахту. Рядом с караульным помещением у ворот какой-то унтер-офицер колотил пряжкой Шполянского, господина графа.
— Ах ты, собака! Заснуть на посту! Дерьмо… Из-за тебя господин лейтенант меня накажет, мерзавец… спать на посту!
Слабые физически люди после еды часто впадают в тропиках в состояние полуобморочного сна. С этой сонливостью невозможно бороться, любые ухищрения напрасны. С окровавленным лицом Шполянский упал на землю.
— Свяжите Шполянского на два часа заодно с другим негодяем.
En crapaudine — средневековое наказание. У лежащего на животе человека связывают запястья и лодыжки и стягивают их так, до тех пор пока ступни не соприкоснутся с кистями. В такой позе человека заталкивают в яму и сверху закрывают.
Лежа на животе в яме, Голубь чувствовал, как кровь бросается ему в голову, а сердце бешено бьется.
Рядом с ним, тоже связанный, лежал, несчастный Шполянский. На солнце было выше пятидесяти градусов, что в Сахаре не редкость. Яму накрыли брезентом. Через полчаса в ней будет страшная жара.
Хм… Кровь отлила от головы, а сердце бьется вроде бы нормально. Да, двадцати четырех часов может и не хватить, чтобы умереть…
— Аренкур… — простонал Шполянский, — я не вынесу… двух часов…
— Да брось ты! Два часа так даже в карты играть можно. Не говоря уже о губной гармошке.
— Но у меня… расширение аорты…
— А зачем было тащиться в Сахару, если ты такой нежный? Старайся не двигаться, тогда кровообращение замедлится и веревка не будет так сильно резать.
— А ты… зачем… шевелишься?
— Хочу умереть…
Под брезентом становилось все жарче, а выдыхаемый двумя солдатами углекислый газ делал пребывание в этом пекле совершенно убийственным. От брезента несло жаром, как от натопленной печки, но наружу тепла он не пропускал.
Читать дальше


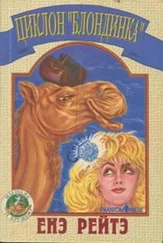
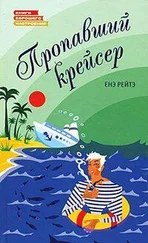

![Енё Рейто - Золотой автомобиль [Авантюрист]](/books/337778/ene-rejto-zolotoj-avtomobil-avantyurist-thumb.webp)


