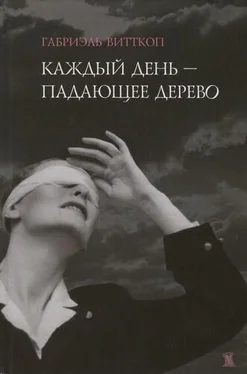В федеративной Германии Ипполита возвращается в свою привычную резиденцию — городок с минеральными водами, Rouletten-burg [11] Рулеткоград (нем.).
Достоевского, с казино в конце аллеи - ее деревья служили проигравшимся виселицами ~ и похожими друг на друга санаториями в рододенровых садах. Она позволяет себе жить уединенно, не ходить в гости, не стремиться понравиться и не обхаживать «весь Париж». Она занимает упорядоченный лабиринт, в котором книги штурмуют потолки, — запутанное помещение с мадеровыми тенями, где косые, ярко-желтые лучи солнца могут вдруг вспыхнуть в зеркале или хрустальном яйце, погладить завиток вычурной мебели, коснуться облупившегося ангельского лика — Ignaz Günther fecit [12] Сделано Игнатием Гюнтером (лат.).
— и даже остановиться в его взгляде. Летом в большой вековой груше, заслоняющей одно окно, перекликаются совы.
Германия, пыльная страна, где все как бы завуалировано, отстранено, молчаливо; страна, способная одним махом сложить крылья большой серой моли и подавить пульсацию в душе, если та окажется недостаточно сильной и плодовитой. Но это страна, которая, не умея развлекать, не вмешивается ни в размышления, ни в мечты и позволяет мыслям делать самостоятельные ходы. О немцах Ипполита не знает ничего, хотя, как ей показалось, замечает в каждом склонность к самоубийству. Итак, Германия. Этой страны следовало избегать, когда сразу после войны Ипполита, всегда плывшая против течения, там обосновалась. Главное — это место благоприятно для внутренних бесед, молчаливых или наоборот, ведь она обожает вести с собой диалоги вслух, долгие, прелестные разговоры, чтобы затем вновь обретать утехи молчания.
Радость возвращения после краткой остановки в Цюрихе. Хорошо знакомый пейзаж: шары омелы, сотнями цепляющиеся к тополям, и бирюзовые реки под бледным небом цвета «серый пейн». Северная зима. Даже летом этот запах снега, мертвый дух выпавших перьев, сброшенной шерсти, запыленной листвы, вечной зимы. Свет спасает все — огромное небо, бросающее сизые отблески на дома, березы, подстриженную траву, корзины для бумаги в скверах, скамейки и фонари. Здесь есть чистая и холодная безвкусица, качество атмосферы, напоминающее шифер и воду, лед и золу, но, возможно, есть и правдивость. Тем не менее, эту страну также можно считать пыльной, приглушенной, косвенной, представлять ее большой молью в резком свете.
2-е февраля. Торжественное возвращение к свету, древний праздник огня, праздник первозданных матерей. А также памятный день траура. (Забыть эту безысходную грусть, это туманное предположение.) Неожиданно, по воле одной газеты, — мне известны уловки таких импровизаций, — я встречаю изображение вазы Евфрония, хранящейся в Метрополитен-музее. Как продолговатые жуки-палочники, возможно, готовые взлететь, двое троянцев стоят по обе стороны группы, в центре которой — Гермес-психопомп, возвышающийся над телом героя со стыдным фармацевтическим именем Сарпедон; его останки поднимают Гипнос и Танатос. Кощунственная ассоциация с дядей, умершим в уборной и поддерживаемым двумя сыновьями, — но как мне совладать со слишком полным сходством всего изображения, как уберечь себя от бесконечных отражений в запретной игре аналогий? Да простит меня Гермес, да простят меня все божества. Фигура Гермеса смущает: крылышки на его лодыжках расположены задом наперед. Бюст, голова и руки, повернутые в сторону, противоположную движению, кажутся чужеродными тазу. Жест тоже двусмыслен: сетующий либо успокаивающий, но эта двойственность присуща самой природе Гермеса. Два брата тоже отличаются странным характером. Внешне похожие, а втайне разные, они представляют ребус. Лица близнецов с острыми бородками, почти одинаковые ястребиные крылья, по виду схожие шлемы с поднятыми забралами над подобными шевелюрами и тождественные хитоны, ниспадающие мелкими трубчатыми складками на бедра. При этом латы Гипноса украшены темными чешуйками, а доспехи Танатоса покрыты переплетающимися светлыми коготками. И главное — Танатос вооружен: на заднем плане виднеются рукоятка и ножны меча, наполовину скрытые за туловищем. В этой обстоятельной сцене, напыщенно изображенной чистыми линиями на черном фоне, почерпнутом у эгейских спрутов, вся драма и вся тайна сосредоточена в Сарпедоне — путнике, уже направляющемся к берегам Ахерона, где отражаются камыши, тополя и угрюмые ивы, которых нет на скульптуре, хотя они хранятся в памяти. Трижды пораженный, в бедро, живот и сердце, Сарпедон падает, словно срубленное дерево. Его руки — ветки, сдерживающие падение; руно над его половым органом окрылено, как вспорхнувшая птица; его икры в поножах кажутся жесткими, будто кора. Но стоит выпрямить изваяние, и мы обнаружим восторженного хориста, кружащегося на ногах, согнутых в неистовом танце. Его пальцы — лирные колки, шевелюра — трепещущая волна, и больше нет падающего дерева, а есть дерево, которое двойное движение, показанное Гермесом, примиряет с самим собой. Поворачиваясь с неизреченной улыбкой к ране, пронзившей сердце, Сарпедон раскрывает объятия тени, которой становится, и наконец воплощает самое давнее и сокровенное из своих желаний.
Читать дальше