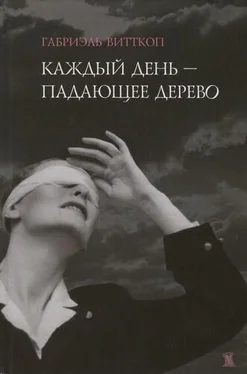Габриэль Витткоп - Каждый день - падающее дерево
Здесь есть возможность читать онлайн «Габриэль Витткоп - Каждый день - падающее дерево» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: Современная проза, на русском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Каждый день - падающее дерево
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:5 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 100
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Каждый день - падающее дерево: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Каждый день - падающее дерево»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Каждый день - падающее дерево — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Каждый день - падающее дерево», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Возвышенная двойственность слова «морг», также означающего по-французски «спесь». Двузначность, несмотря на общую и отнюдь не загадочную этимологию. Ни осанка, ни владение собой, ни гигиена — вдумайтесь — не мыслимы без спеси. Итак, полная спеси, всегда читающейся на моем лице, я отправилась в морг больницы Б. «Комната отдыха», как его называют, расположена в конце тропинки, обсаженной калиной, березами, чахлыми и жалкими пихтами, которые пытаются передразнивать факельщиков. «Пихта, из которой делают гробы, — вечнозеленое дерево».
Прозекторская. Рисунки Везалия гораздо правдивее этой реальной, серозной, изъеденной раком женщины, чьи метастазы патологоанатом ищет внимательно, будто вшей. Везалий в «De humani corporis fabrica» [40] «О строении человеческого тела» (лат.).
изображает тела с обнаженными мышцами, — вероятно, вслед за Тицианом, — в позах танцоров, чья кожа опадает закругленными лепестками, венчиками, кроличьими ушками, хвостами креветок, а некоторые даже держат собственную оболочку на руке, будто меха: препарированные фигуры, блуждающие средь фламандских пейзажей со слепой нерешительностью или подвешенные к виселице, — их мускулатура разворачивается веером, складными страницами, замысловатыми выступами. И все же мы узнаем себя в этих объектах, опознаем собственное строение, вновь обретаем свою кожу в этих вычурных перчатках, свисающих до самой земли, в этих вырезках, покачиваемых ветром. Но хоть я и не нахожу их в телах, лежащих на бетонном полу, в этих окоченелых деревьях с ободранной корой в «комнате отдыха», я обнаруживаю здесь такое же простодушие и достоинство того, что всегда сторонилось коллективных испражнений, социальных контактов, материнства, всех этих вещей, связанных с кишками, выделяющими желтый сок, фиолетовыми тыквами, очень тихо капающими и жутко живыми.
Кем были эти мертвецы и кто они теперь? И кто я сама? Что такое «я»? Этот локон, эта кожа, уже покрывающаяся пятнышками на руках, этот ноготь, который я подстригаю, глухие и слепые внутренности, занимающиеся моим пищеварением, лабиринт моих вен? Или всего лишь серая масса, похожая на ту, что я видела в ведре с формалином? Насколько моя личность помещается в мозговом веществе, в этой загадочной, азотсодержащей материи? Где мое «я»? Где — я? И, когда все кончится, чем станет эта бесчувственная на вид вещь, эта оболочка, брошенная одежда? Совет: главное - не задавайте вопросов, и получите ответ.
На улице солнце забрызгало своими лучами город. У вина - землистый привкус. Мое лицо, отраженное в окне, принадлежит покойнице. Я украдкой ощупываю череп, мертвая в живой: ночные своды орбит, лобную раковину, свои будущие улыбки, свою глубинную известь, я ощупываю свой череп — жест, хорошо знакомый мне с детства.
Рядом с тропинкой, сбегающей к озеру Господа Бога, тихо гниет очень старый пень, который постепенно погружается в перегной и торф. Пень остался от дуба, поваленного году в 1925-м, его распилили на бревна и доски на местной лесопильне и сделали из него сиденье для качелей, на которых несколько лет спустя чуть не убилась Югетта. Пень стоит там до сих пор — одинокий, шершавый, поросший мхом и лишайником, местами фосфоресцирующий, насыщенный танином, пробуравленный насекомыми и червями. Над ним проходят десятилетия, с рассветами и сумерками, дождями и солнцем, а он — ни жив, ни мертв.
Этой ночью Югетта просыпается от сна, который, хотя и не был настоящим кошмаром, вызывает у нее тревогу, поскольку она не может вспомнить, что ей снилось. Все ее существо словно почернело от коварных муравьев, пока не кусающих: эти муравьи как бы завелись у нее в душе. За покровом появляется кукла-муравей, в глубине склепа качаются качели, красивый, но уже мрачный голос произносит ряд непонятных слов — речь идет лишь о плиточном поле и рассыпанных опилках. Все туманно. Югетта, которая очень много ест, дабы утолить тоску менопаузы, предрасположена к дурным снам. Тем не менее, у Югетты в действительности нет собственной жизни, индивидуальной личности, имя ей — попросту легион. Поскольку ей необходимо войти в некую категорию, она сохраняет свою роль христианской матери, интересующейся социальными проблемами и общественными вопросами. Югетта находится в положении часового, у которого замерзли ноги и который знает, что без этих озябших ног он ни на что не годен. Небо в шутку не завоевывают, и нельзя быть в шутку полезным обществу. К счастью, мы находим тайное удовольствие в поводе для негодования, сопутствующем любой морали, и извлекаем из особых утешений пользу для бойскаутского оптимизма. Югетта ценит не только идеи ада и чистилища, но и прекрасные истории о паралитиках, тренирующихся перед Олимпиадой, или замечательных матерях, ухаживающих за детьми-уродами, не получая от этого видимой денежной прибыли. Работницы Югеттиного мужа любят эти же истории, прибавляя к ним, возможно, какой-нибудь крошечный идеологический акцент и заменяя Страшный суд Революцией. Есть определенный склад ума, для которого хорошо — всё; он благороден и не ведает ни родины, ни вероисповедания, ни принуждения. Достаточно никогда не сомневаться, и тогда мы его обретаем. Но эта кукла, эта кукла... эти качели... Югетта поворачивается и пытается снова уснуть. Так будет лучше. Нельзя удержаться, чтобы не представить, какой бы Югетта стала теперь, если бы погибла под качелями: детским скелетиком с крупной головой на дне фамильного склепа, суше и бесплоднее, чем пень дуба, гниющий на берегу озера; известковой звездой, марионеткой, большим пауком цвета слоновой кости, который от времени уже стал охровым.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Каждый день - падающее дерево»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Каждый день - падающее дерево» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Каждый день - падающее дерево» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.