Там он угодил прямиком в объятия орды пьянчуг, костюмированных шкурами и бычьими рогами; маски окружили его, а когда он попытался удрать в одну из залитых трепетным светом крутых улочек, с воплями втащили назад в толпу, выкрикивая какие-то лозунги и вопросы на языке, которого он не понимал. Потом одна рука, лапища, цапнула его за волосы, другая мгновенно сомкнулась на горле, а третья и четвертая тисками обхватили голову, силой раскрыли ему рот и под крики и хохот влили из фляжки водку, ледяную, жгучую, удушливую водку. Тщетно Котта под градом ударов рвался из цепкой хватки; он задыхался, кашлял, глотал, пил, чувствовал зубами холодную жестяную резьбу фляжки и видел, как над рогатыми черепами мучителей тает звездное небо. Затем лапищи отпустили его. Римлянин рухнул на мостовую. Одежда его впитывала маслянистую лужу, а перед глазами топали прочь сапоги и тяжелые ботинки. Томы, город, где он целыми днями тщетно расспрашивал о Назоне, где напрасно старался привлечь внимание скупых на слова, неповоротливых людей, — этот город впервые прикоснулся к нему.
Несколько минут Котта не мог отдышаться, сердце колотилось как бешеное, когда же он встал на ноги, то был совершенно пьян. Шатаясь, он пересек площадь и теперь уже не избегал ряженых; иные из них швыряли друг в друга факелами и бутылками, другие, как он, нетвердой походкой плелись куда-то. Грязный и одурелый, в одежде, от которой после похода в горы и лежанья на мостовой остались жалкие лохмотья, он был сейчас одним из них. Шагая по улице к дому канатчика — постройки на ней от ветхости развалились, и она снова сделалась широкой и просторной, — Котта для полного счастья затесался в большущую процессию ряженых; длинная вереница троллей, живых камней, птицечеловеков, наездников верхом на ослах, машущих цепями воинов шагала под звуки духового оркестра, который давным-давно сбился с такта и ноги. Многие маски в этот час, под конец утомительного змеистого пути через весь город, еле-еле передвигали ноги и молча ковыляли друг за другом; если кто-нибудь спьяну падал и больше не вставал, оркестранты уныло лязгали туш. Рассвет был уже на пороге. Процессия едва не увлекла Котту обратно к морю; он отчаянно оборонялся от цепких рук, от напирающих плеч, от пинков масок, пьяный одиночка в густом водовороте, и все же почти не приближался к дому канатчика, топтался на месте, а мимо, пошатываясь, один за другим брели ряженые. Генерал в широких, выкроенных из свиных ушей эполетах сжимал бронированными кулаками два шнурка, когда он дергал за них, крылья у него на шлеме хлопали и дребезжали. Огромная, вся в красных брызгах бабища с торсом из дерева и соломы, с тощими ручонками, растущими из подбрюшья, подбрасывала вверх и с визгом ловила картонный череп. Епископ без устали благословлял собственные шаги. Фаллос толкал перед собой мошонку из двух воздушных шаров. За ним какой-то человек гнулся в три погибели под тяжестью лотка, на котором он тащил электрический аппарат, батарею, сплошь покрытую кристаллами селитры, — она питала кольцо из лампочек вокруг согбенного. Следом по мостовой протарахтела беленая, запряженная волами телега; возница едва держался на облучке, размахивая горящим кнутом, — Терей. Котта узнал его в этом вознице, украшенном обрывками золотой бумаги и кусочками блестящего металла. На голове у Терея возвышалась привязанная плетеными кожаными ремешками птичья клетка, из которой тучами летели какие-то белые хлопья; в полной пушинок клетке были заключены две крысы, в ярости и ужасе перед огненным кнутом они поминутно наскакивали на решетку, бушевали, кидались одна на другую, осыпая голову мясника пуховым снегом. В минуту передышки, когда оркестранты завели туш в честь очередного упавшего, а широкая телега заставила Котту прижаться к стене, римлянин слышал только лишь кнут, царапанье крысиных когтей и писк бьющихся не на жизнь, а на смерть зверьков и начал догадываться, что пыталась изобразить в последний час карнавала эта процессия жутковатых фигур. Маска Терея была карикатурой, грубым шаржем, но тем не менее напоминала выветренные рельефы с фасадов римских храмов, министерств и дворцов, напоминала изображение солнечного бога на огненной колеснице. Мяснику хотелось быть Фебом. Пастухи с прибрежных гор, рудоплавы и шахтеры из Томов копировали в этот час великолепие римских небес: первый среди богов тащил на лотке по городским улицам батарею, славой Юпитера и стрелами его молний были раскаленные вольфрамовые нити в вакууме электроламп. Генерал, что, как слабоумный, дергал за шнурки, был бессмертным богом войны, а красная бабища — окровавленной Медеей, которая убила родного брата, расчленила детский трупик, а отрезанную голову швырнула в камни береговых круч, словно волосатый, перепачканный мяч; Медея, заглавная героиня Назоновой трагедии, принятой с восторженными овациями во всех театрах Империи и превратившей своего сочинителя в знаменитость; Медея, перемазанное кровью пугало из лохмотьев и соломы, ковыляющее в этой шутовской процессии.
Читать дальше



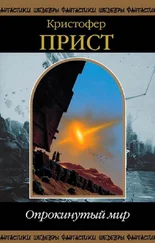






![Кристофер Прист - Опрокинутый мир [litres]](/books/428607/kristofer-prist-oprokinutyj-mir-litres-thumb.webp)
