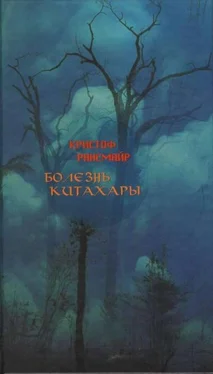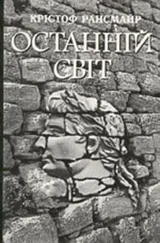Банды головорезов прятались в развалинах обезлюдевших городов, в лабиринтах горных пещер и периодически, вот как той апрельской ночью, совершали набеги на беззащитные медвежьи углы вроде Моора и соседних с ним деревушек. Когда войска ушли из приозерной глуши в равнинные районы и эти забытые Богом дыры оказались предоставлены самим себе, любая наглая шайка, даже не имея огнестрельного оружия, могла безнаказанно творить что угодно.
Бывало, пяток-другой крестьян-свекловодов да работяг из гранитных карьеров брались за топоры и камнеметы и сообща обороняли въезд в деревню, а так бандам вовсе никакого удержу не было. Военные патрули уже давно охраняли только линии связи между равнинными комендатурами и, как правило, оставались глухи к призывам о помощи из захолустных деревушек.
Эпизодические карательные экспедиции, которые иной сердобольный генерал снаряжал к озеру или в какую-нибудь горную долину, бандитов ничуть не пугали: приметные издалека армейские колонны дня два-три тащились по деревням, ставили палатки под прикрытием разоренных хуторов, иногда в камнях хоронили убитых… Солдаты допрашивали жертв налета, составляли протокол, тут и там, демонстрируя свою непреклонную решимость, обстреливали лесной массив или ущелье, где давным-давно никого не было, – и снова уходили.
Немногочисленные армейские агенты среди местного населения обладали достаточным влиянием, чтобы пользоваться своими привилегиями, однако, по условиям стелламуровского плана, все они остались без стрелкового оружия и были слишком слабы, чтобы хоть как-то защитить от налетов вверенную им нейтральную зону.
Банды могли объявиться где угодно и тотчас же стремительно исчезнуть; они громили все, что вставало им поперек дороги, собирали денежную дань , якобы за охрану, нападали даже на общины кающихся, которые длинными вереницами тянулись тогда через поля былых сражений и к братским могилам уничтоженных лагерей, воздвигая там памятники погибшим и часовни.
Кающиеся были защищены десятками законов военной юстиции, и, несмотря на это, бандитский сброд гонялся за ними по полям, жег их флаги и транспаранты, рвал в клочья и швырял в огонь портреты мироносца Стелламура.
В ту ночь шайка под конвоем двух мотоциклистов, словно возникнув из небытия, заявилась в Моор на угнанном в каком-то сельхозтовариществе грузовике; в кузове было полно булыжников и бутылок с керосином. Машина громыхала по набережной и по улочкам, временами замедляла скорость почти до черепашьей, и тогда на окна и ворота усадеб обрушивался шквал зажигательных снарядов. Парни в кожаной броне стояли пошатываясь вдоль бортов грузовика и с истошным улюлюканьем, под несмолкающий рев клаксона осыпали Моор горящими бутылками. Строптивая глухомань должна, черт побери, уразуметь, что от этого бедствия их избавит только пожарный грошик , охранная мзда.
В конце концов они добрались до плаца, вылезли из машины, вломились в дом моорского секретаря, выволокли орущего мужика на улицу, облили керосином и, угрожая поджечь, погнали к старой пароходной пристани. Там его привязали к якорю разбитого прогулочного катера и по дощатому настилу подтащили вместе с этой железиной прямо к воде, он уж думал: все, смерть пришла! – и кричал не своим голосом, но они вдруг отстали, бросили рыдающую жертву, словно надоевшую игрушку.
Между тем из разбитых окошек секретарского курятника, трепыхая крыльями, выскакивали во тьму куры, а избитая цепями умирающая дворовая собака, скуля, ползла через плац.
Лишь спустя месяцы Беринг осознает, что после первого же удара, который обрушился на его голову, как раз когда он нагнулся над собакой, он думал об одной-единственной возможности спасения – о вороненом армейском пистолете, спрятанном в кузнице, в старой печной трубе. В тот год, когда состоялась передача имущества, отец за сушеные яблоки, одежду и копченое мясо выменял оружие у какого-то дезертира, а потом завернул бесценное и запретное для всего гражданского населения сокровище – даже хранение каралось смертью! – в промасленную тряпицу и подвесил в дымоходе.
Все это время Беринг не просто был осведомлен об отцовском секрете, но регулярно доставал пистолет из холщового свертка, разбирал, собирал снова и освоился с этим чудом механики не хуже, чем с куда более грубым кузнечным инструментом, что отцу, кстати говоря, было невдомек, узнал он об этом лишь в роковую апрельскую ночь. Так или иначе, пистолет висел себе и висел в дымоходе, вычищенный и заряженный.
Читать дальше