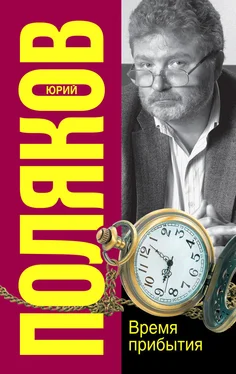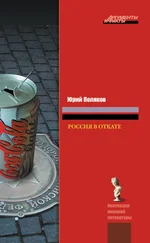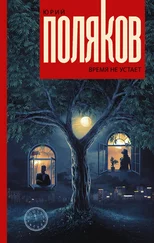Юрий Поляков
Время прибытия
Перечитать старые письма или перебрать свой пыльный архив – лучший способ вспомнить достоверное прошлое и полнее понять его. Листая желтые страницы былого, ты словно возвращаешься в знакомый музей, где бывал в простодушном детстве, в доверчивой юности, когда еще не прочитал тома исследователей и не пережил бурные увлечения теориями, легко и до основания объясняющими наш мир. И вот теперь, стоя перед витриной с сияющими доспехами, ты уже не восхищаешься, как в отрочестве, блеском ратной брони, а по-взрослому грустишь о том, что даже дамасская сталь не способна уберечь от смерти хрупкую человеческую жизнь. Ее ничто не способно уберечь! Так случилось и со мной, когда я в канун 60-летия открыл коробки с давними моими рукописями, куда не заглядывал четверть века. Открыл, нашел свои стихотворные черновики, строгие редакционные отказы, первые сочувственные рецензии и вспомнил, как я был поэтом. Но вспомнил как-то иначе, по-другому, совсем по-другому…
Человека, который хоть недолго был поэтом, я узнаю с первого взгляда. И не важно, кем он стал после своей поэтической кончины – журналистом, прозаиком, политиком, инженером, бизнесменом, генералом, бомжем… Как заметил, кажется, Флобер: на дне души самого жалкого бухгалтера таятся обломки великого поэта. А все дело в том, что поэт – счастливый невольник слова. Он и в быту разговаривает совсем не так, как другие, – не просто обменивается информацией, а наслаждается, упивается рождением внезапного словесного смысла… Он кожей чувствует, что иной крошечный промежуток между словами значит куда больше, нежели сами слова. Для него слово – это живая белка на великом древе, соединяющем землю и небеса. Для большинства же слово – это просто шапка, пошитая из мертвых беличьих шкурок…
Написаны горы сочинений о пророческих способностях поэтов, об их умении предугадывать ход истории. Это действительно так, и пророческий дар объясняется, по-моему, именно особенным чувством живого слова. Ведь все события совершаются прежде в языке, в слове, а лишь потом в реальности. Советская цивилизация была разгромлена тогда, когда мы пустили в нашу речь такие словечки, как «совок», «коммуняки», «тоталитаризм»… Не случайно было широко подхвачено придуманное мной словечко «апофегей». Оно отразило то межеумочное состояние общества, когда по-прежнему жить не хотят, а как надо – никто не знает, кроме либеральных ведунов – извечных двоечников нашей истории.
А в 92-м, как только появились в языке «прихватизация», «демокрады» и прочее, – стало ясно: вестернизация России, если и не отменяется, то откладывается надолго. Помню, как, прочитав в «Труде» мой неологизм «соросята», мне позвонили из Фонда Сороса и предложили в обмен на лояльность вояж по американским университетам. Я, конечно, отказался с гордостью человека, только что закончившего штопку последних штанов. Но какова оперативность! Понимают мировые закулисники цену точному слову. Поэт благодаря особому дару улавливает языковую подготовку исторических сломов намного раньше остальных. «И гад морских подводный ход» – сказано Пушкиным именно об этом, а не о миграциях косяков атлантической сельди.
Поэт может молчать, но по тому, как загораются его глаза при удачном чьем-то слове, сразу понимаешь – кто он таков. Помню, в 86-м году я был с творческой, так сказать, миссией в Сирии и встречался с тамошними литераторами. В мою задачу входило проинформировать сирийскую писательскую общественность о том, как организовано литературное дело в тогдашнем СССР, а организовано оно было, если оставить за скобками мягкий, но твердый идеологический контроль, отлично. Мой рассказ о писательской жизни Страны Советов арабы слушали с неподвижными лицами, мерно перебирая четки. Некоторое оживление вызвали лишь сведения о тиражах толстых литературных журналов. Когда я сообщил, что тираж «Юности» – три с половиной миллиона, они глянули на меня так, точно хотели сказать: «Хоть ты и гость, уважаемый, но врать все равно нехорошо…» В заключение переводчик Олег Бавыкин попросил меня прочитать хотя бы одно мое стихотворение. Я пожал плечами, посмотрел на эту невозмутимую бедуинскую аудиторию и продекламировал:
Война уже потеряна из вида.
И генералы – нефронтовики,
А все ж у мира, как у инвалида,
Болит ладонь потерянной руки…
Бавыкин перевел, как умел, – и вдруг эти равнодушные люди пустыни закивали, зацокали языками, заулыбались, запереглядывались, как заправские московские стихотворцы, оценившие удачную метафору коллеги за пивом в ЦДЛ.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу