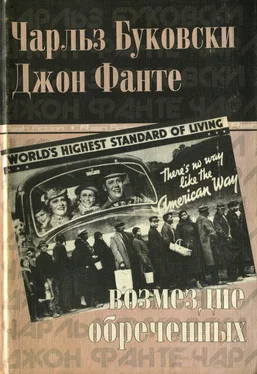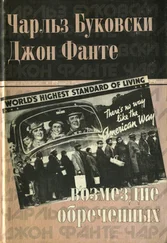Сплюнув, он выдвинулся на обнаружение противника. Он знал, где заныкался Штриблинг, так как они играли в эту игру уже сто раз. Штриблинг должен был быть через пять домов вниз по аллее, среди больших ветвей инжирового дерева Бекера. Ему следовало только обогнуть дом, войти во двор с улицы, тихо на цыпочках пробраться по дороге к гаражу — и накрыть Штриблинга из своего дробовика. Но Крейн был подавлен выпавшей незавидной участью, и инстинкт охотника покинул его. На негнущихся ногах он протопал вниз по аллее, не сделав ничего для маскировки, с сердцем, готовым почти с радостью принять пулю преступника.
— Тдж! Тдж! — долетели звуки смертельного огня с инжирового дерева.
Крейн пошатнулся, режущая боль обожгла сердце. Дробовик выскользнул из рук, и он завалился, как пьяный, на землю. С победным воем Штриблинг спрыгнул с дерева и подскочил к нему. Крейну было очень больно. Пуля прошла насквозь, и из раны хлестала кровь. Слабеющей рукой он потянулся к своему шестизарядному револьверу. С дьявольской улыбкой предвкушаемого наслаждения Штриблинг ждал, когда Крейн коснется оружия. Он дал ему достать его, и тут же набросился сверху с резиновым тесаком. Удары были жестокими и беспощадными. Тело Крейна забилось в предсмертной агонии и затихло. Он умер. Игра была окончена. Пора начинать все сначала.
Крейн погибал еще два раза в это утро. Как и у Хопалона Кэссиди , его сердце было вырезано и брошено на съедение аризонским шакалам. А кончина его в роли Лона Рэйнджера была еще более умопомрачительной. Штриблинг привязал его к дереву и прострелил ему оба глаза, а когда и после этого он все-таки не выдал места хранения партии золота, бандит резиновым ножом отрезал ему нос. И хотя Крейн бился в конвульсиях в луже собственной крови, задыхаясь и глухо завывая, но он унес тайну с собой в вечность.
Убийства продолжались бы все утро, если бы они не нашли бутылки из-под эля. Десять бутылок в джутовом мешке. Они были спрятаны кем-то в высокой траве в аллее. Абсолютно все целые, по пять центов за штуку. Ребята погрузили трофеи на тележку и потащили на приемный пункт. Когда они вышли оттуда — каждый с четвертаком, они были богачами, щедрой рукой разбрасывающими деньги на жвачку и шоколадные плитки в ближайшей кондитерской.
Это была задушевная, секретная оргия. Забравшись на крышу гаража Крейна, они легли на животы и по-свински безмолвно пожирали приобретенное. Горячее солнце плавило шоколад, им приходилось зубами соскабливать его с обертки и облизывать измазанные пальцы. Потом они перевернулись на животы и принялись за восхитительную теплую жвачку, медленно разжевывая ее, закрыв глаза от слепящего солнца и наслаждаясь божественным вкусом стекающего по пищеводу сока.
— Дэнни!
Это мать звала его с заднего крыльца.
— Чио ты хошишь?
— Обед готов.
Крейн застонал. Одна только мысль об обеде сделала жвачку горькой. Он сплюнул ее с отвращением. Они сползли к краю крыши, перебрались на забор и спустились на землю. Штриблинг ушел к себе. Крейн открыл кран на шланге, омыл губы струей воды и утерся рукавом. Он посмотрел на дверь кухни и задумался на мгновение. Скорее всего, жирный томатный суп, сэндвич и стакан молока. Выхода не было, только мятеж. Настроение было паршивым, в животе — тяжесть. С угрюмым видом он вошел на кухню. Томатный суп, молоко и сэндвич. Ник уже заканчивал. Он выпил залпом молоко и откинулся на стуле.
— Было очень вкусно, мама. Спасибо.
— Прохвост, — усмехнулся Дэн.
— Кого ты назвал прохвостом?
— Тебя, самым настоящим. Давай, сделай что-нибудь…
Миссис Крейн прервала его.
— Садись, Дэнни. Ешь.
— Я не голоден.
— Но ты же даже не завтракал.
— Все равно не хочу.
— Ты хорошо себя чувствуешь, Дэнни?
— Никогда в жизни не чувствовал себя лучше.
Злость исказила ее голос.
— Дэн Крейн, я не допущу, чтобы мне не повиновались. Марш к себе в комнату!
Дэн приплелся наверх к себе и рухнул на кровать. Он уставился в потолок и стал мечтать о маленьком ослике, простом верном друге, который смог бы вывезти его из Лос-Анджелеса и доставить в Сакраменто на родину дедушки, где в горах полно золота, и каждый может стать богатым и обеспечить свою семью. Он улыбался, представляя себя богачом, швыряющим золотые самородки к ногам плачущей матери, и ее — извиняющуюся за плохое отношение к нему в детстве.
В три часа он услышал за стеной лопотание Виктории и понял, что сестра проснулась после своего дневного сна. Он представил Вики в ее колыбельке, розовенькую, с широко раскрытыми глазами, что-то напевающую, и непреодолимое желание увидеть ее овладело им.
Читать дальше