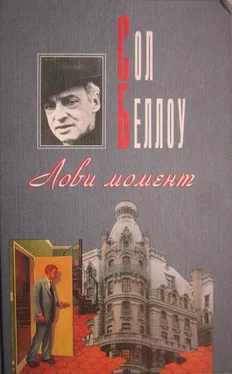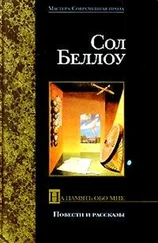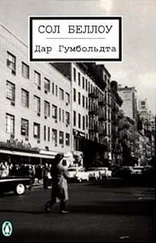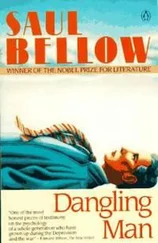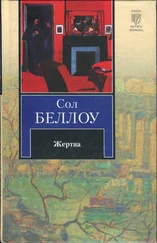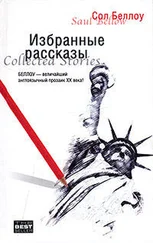Дорогая Ванда, писал Герцог. Английского она не знала, и он перешел на французский. Chere Princesse, Je me souviens assez souvent… Je pense á la Marszalkowska, au brouillard [18] Дорогая княгиня! Я довольно часто вспоминаю… Мне представляется Маршалковская, в тумане ( фр. ).
. По-французски женщину проймет любой второстепенный, третьестепенный и даже более низкого разбора мужчина, чем и занимался сейчас Герцог. Хотя сам он был другой складки. Он хотел выразить искренние чувства. Сколько доброты было в ней, тревоги за него, когда он заболел, а это дорогого стоит, если женщина пышет здоровой, польской красотой. У нее полновесная, червонного золота копна волос, немного клювиком нос, впрочем, отличной лепки, с точеным кончиком, что совсем неожиданно у полноватой особы. Она налита белизной, здоровой, крепкой белизной. Как большинство варшавянок, она носила черные чулки и узкие итальянские туфли, при том что шубка была вытерта до лысинок.
В моем горестном положении, в ожидании лифта записывал Герцог на отдельном листке, откуда мне было знать, что я делаю? Провидение, писал он , печется о верных. Я предчувствовал, что встречу такого человека. Мне ужасно повезло. «Повезло» он несколько раз подчеркнул.
Герцог видел ее мужа. Бедняга, живой укор, сердечник. Единственная промашка Ванды — что она настояла на его встрече с Зигмундом. Мозес так и не уяснил, зачем это было нужно. Предложение развестись Ванда отвергла. Она была совершенно довольна своим браком. Все бы такие были, говорила она.
Ici tout est gâché [19] Здесь ничего не вышло ( фр. ).
.
Une dizaine de jours à Varsovie — pas longtemps [20] Десять дней в Варшаве — не дольше ( фр. ).
.
Если можно назвать днями эти мглистые зимние паузы. Солнце изнывало в стылой бутылке. Во мне изнывала душа. Колоссальные плотные занавеси уберегали вестибюль от сквозняков. Деревянные столики загажены, избиты, в чайных пятнах.
Ее кожа оставалась белой при всех приливах и отливах чувства. Зеленоватые глаза казались вышивкой на ее польском лице (природа-белошвейка). Пышная, полногрудая женщина, она была тяжеленька для стильных итальянских лодочек. Без каблуков, в этих своих черных чулках, она казалась вполне дородной. Он скучал по ней. Когда он брал ее за руку, она говорила: «Ah, ne toushay pas. C’est dangeraу» [21] Ой, не трогайте. Это опасно ( фр. искаж. ).
. Хотя совсем об этом не думала. (Как он липнет к своим воспоминаниям! Какие слюни распускает! Может, он извращенец на почве памяти? Не надо таких слов. Какой есть.)
И еще постоянно вспоминалась грязноватая Польша, стылая куда ни глянь, замызганная, подрумяненно-серенькая, где самые камни словно источали запах военного лихолетья. Он много раз ходил на руины гетто. Ванда водила его туда.
Он тряхнул головой. Ему-то что полагалось делать? Он еще раз нажал кнопку вызова, теперь уже углом саквояжа. И услышал гул плавного движения в шахте — смазанные цепи, гул мотора, отлаженный темный механизм.
Guéri de cette petite maladie [22] Выздоровел от этой маленькой болезни ( фр. ).
. He надо было говорить Ванде: она была буквально убита, сгорала от стыда. Pas grave du tout [23] Совсем ничего серьезного ( фр. ).
, писал он. Он довел ее до слез.
Лифт встал, и он кончил: J'embrasse ces petites mains, amie [24] Целую маленькие ручки, дружок ( фр. ).
.
Как по-французски: белые припухшие костяшки пальцев?
Пробираясь в такси раскаленными улицами вдоль сплоченно стоящих кирпичных и известняковых домов, Герцог держался за ремень и широко открытыми глазами вбирал виды Нью-Йорка. Прямоугольные массы не бездействовали — они жили, он чувствовал их затаенное движение, побратимство с ним. Каким-то образом он осознавал свою причастность всему — в комнатах, в магазинах, в подвалах, и в то же время его пугало это множественное возбуждение. Хотя с ним-то обойдется. Он переволновался. Надо успокоить издерганные, разболтавшиеся нервы, загасить внутренний чадящий огонь. Скорее бы Атлантика — песок, соленый воздух, целительная холодная вода. После морских купаний ему лучше, яснее думается. Мать верила в замечательное действие купаний. Сама — как рано умерла! Себе он пока не может позволить умереть. Он нужен детям. Его долг — жить. Остаться в здравом уме, жить, заботиться о ребятах. Поэтому-то, допеченный жарой, с резью в глазах, он убегал из города. Он бежал от перегрузок, от проблем, от Рамоны, наконец. Бывают такие времена, когда хочется уползти куда-нибудь в нору. И хотя впереди ясно виделся только безвыходный поезд с принудительным отдыхом (в поезде не побегаешь) до самого Вудс-Хоула — а это еще надо пропахать Коннектикут, Род-Айленд и Массачусетс, — рассуждал он вполне здраво. Сумасшедшим, если они не безнадежны, морское побережье на пользу. Он готов попробовать. В ногах чемодан с шикарным барахлом, а где соломенная шляпа с красно-белой лентой? Она на голове.
Читать дальше