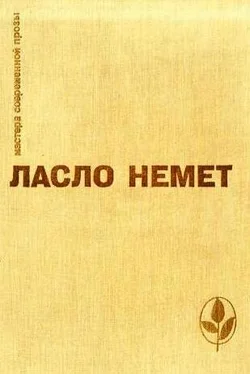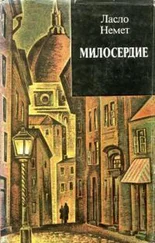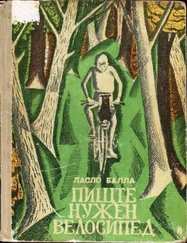— Уж если не привелось мне на того работать, кого любила, так нелюбимого обстирывать не стану. В жизни моей цели нет. А раз сейчас ее нет, так и потом не нужно! Чтоб я стала стряпухой у вдовца какого-нибудь!
— Не годится так говорить, что нет цели в жизни, не только молодому, но и старому даже. Уж как я расстраивалась, когда сын мой проступок тот совершил, помните? Может, и несправедливой была к нему. Человек молодой, легкомысленный. А теперь, слава богу, вот уж сколько времени не могу на него пожаловаться. Есть у него место какое-никакое, да и кутить перестал вовсе… еще доживу, что станет порядочным семейным человеком, и мне, как другим старушкам, будет к кому наведываться. Нет, человек никогда не может сказать, что нет у него цели в жизни, вот чему меня судьба моя научила.
Жофи молчала; в садике раскачивался куст жасмина; ее пробрала вдруг дрожь, хотя она вышла в теплом платке, крест-накрест перетянутом на груди. Кизела, видимо, не осмелилась развивать дальше свои надежды на будущее, а Жофи не произнесла ни звука, не известно, поняла ли она, о чем говорила Кизела, или думала только о своем.
— Знаете, что меня мучит больше всего, — взволнованно зашептала Жофи тем доверительным тоном, когда чудится, что слышен стук сердца. — Ведь кажется, что же такого… ну, умерло дитя — ведь бог взял! Но легко сказать — бог. А что, как и не бог взял вовсе, а просто мать бездумной была? Я, знаете, ни с кем еще не решалась говорить про это, но с тех пор, как нет его, я себя поедом ем: если б ты иначе с ним обращалась, не лежал бы он сейчас там, бедняжка. Видит бог, какой я была ему матерью, только он один был у меня в целом свете, а я все-таки не умела говорить с ним на его языке. Верите ли, этот кроха боялся меня, рад был радешенек, если мог убежать из дому. К соседям убегал, возился там с черепками да с дырявыми кастрюльками, может, там и простыл, бедняжка.
— Ну что вы, право, не терзайте себя такими мыслями, — опять заговорила в Кизеле ее новая, особенная доброжелательность, однако в голосе сквозь снисходительную ласку пробивалось и торжество: вот оно, теперь Жофи сама признает, что не умела обходиться с ребенком! Но ткнуть ее носом в свою правоту — нет, такого Кизела себе не позволит. — Ведь я все это время была рядом с вами и видела, как обращались вы с бедняжкой. Уж лучше и невозможно. А другая бьет дитя свое, колотит — и ведь ничего, живет.
— Но я видела, — настаивала Жофи, — и вы, сударыня, замечали, что не такая была я с ним, как нужно бы. Помните, как я его кофе пить заставляла. Сперва просила по-хорошему, потом и бранить начала, а ведь он тогда уже больной был. Не хватало у меня на него терпения. Единственное дитя, и я не сумела в сердечко его проникнуть.
— А вы думаете, другие матери умеют? — вздохнула Кизела: она слушала свои прежние упреки в адрес Жофи, но все совестилась сейчас напомнить об этом. — Теперь-то мне на сына моего жаловаться не приходится. Когда он в последний раз приезжал, на похороны, уж так хорошо поговорил со мной, всю душу раскрыл, право, а ведь было время, когда только и слышала от него: «А вы, мутер, помалкивайте». Таковы дети: то словно чужие, а то вдруг опять вспомнят, что значит матушка родная. Это лишь та мать поймет, у кого сын вот таким же большим да своенравным вырос. Но в конце концов я же, его мать, и стала ему советчицей. Выжил бы Шаника, и у вас так с ним было бы.
— А я думаю, никогда бы он мне не доверился. Ведь и в тот раз его от соседей домой принесли. Эта горбунья Ирма лучше умела говорить с ним, чем я. Бог весть что у меня за норов такой, всех отпугивает. Уж и не знаю, может, его калека та заразила…
— Что нам ведомо, милочка? Бедный муж мой часто говаривал, когда кто-нибудь уж очень желал докопаться в чем-то до корня: да у меня бы все кишки наизнанку вывернулись от моих любимых голубцов, вздумай я допытываться, из чего всякий капустный лист да каждая рисинка произошли и что с ними прежде бывало… Самое лучшее — принимать все, как есть, и не искать причин. — Правда, этот принцип находился в полном противоречии с обыкновением Кизелы разнюхивать про все — что, как и откуда, — но сейчас, в этом добром настроении готовности соглашаться с каждым словом Жофи, она охотно развивала противную ее нраву точку зрения, чтобы хоть на время унять тревоги молодой женщины. — Вот мне не сегодня-завтра пятьдесят семь стукнет. У вас большое горе, но молодость, даже с горем вместе, все-таки лучше старости, хотя б и без горя. Старость каждую косточку растревожит, то в руке кольнет, то, глядишь, ноги чуть не отнимаются от боли. Пока пастух зорьку проиграет, пять раз сядешь в постели, откашливаешься да слушаешь, сколько бьют часы на стене, а между одним боем и другим — целая вечность. Скоро-скоро и я стану такой же дряхлой старушонкой, какой помню свою мать: так же буду шаркать, так же разговаривать сама с собой. Конечно, тут вы под боком, иной раз и заглянешь к вам вечерком, но ведь не вечно же так будет. Прежде я так не чувствовала одиночества; когда умер мой старичок, я поплакала, но было и облегчение какое-то, что не с кем уже ненавистничать. А сейчас думаю, хорошо, когда есть кто-то рядом, ведь с каждым днем будешь все беспомощнее, вот и затоскуешь по родной душе. Бывает, приструнишь себя: глупая, на что надеешься? Ну, женится твой сын, какая-нибудь образованная пештская штучка навяжется ему на шею, а уж она поспешит выкурить тебя, хотя и пенсия моя не помешала бы (старый человек много ли наест!), — но ведь не захочет она, чтоб в ее карты заглядывали. Мужчину-то одного легче обвести… Правда, нынче, вижу я, словно бы на другое повернулись у Имре мысли; столичные курочки набили ему оскомину, вот и становится он порядочным человеком.
Читать дальше