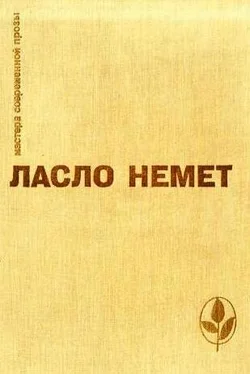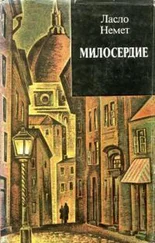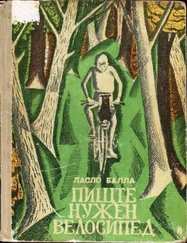После этой суроволикой Кизелы Жофи почти сердила снисходительная медоточивость Кизелы подлинной. Вдову школьного служителя приятно поразили наново выструганный пол, выкрашенные окна, полная тишина после обеда, но ее озадачивала отчужденность, таившаяся за неизменной готовностью Жофи услужить ей.
— Где вы берете молоко, сударыня? — спрашивала Жофи. — У Порданов? Тогда маменькина работница по дороге к нам будет и его прихватывать заодно.
— Ох, этот негодник опять шумел ночью. Не разбудил он вас, сударыня? Уж я его отчитала — убью, говорю, если будешь безобразничать!
Напрасно уверяла Кизела, что малыш ей ничуть не мешает, не надо его обижать из-за нее. Жофи снова и снова находила причины для самоуничижительного беспокойства:
— Утром я хлеб пекла. Правда, ходить старалась на цыпочках, но, может, все-таки потревожила вас? Так я уже вечером печь стану.
Кизелу стесняла ее чрезмерная предупредительность. Собственно говоря, она была женщина общительная и с превеликим удовольствием излила бы на Жофи весь тот мед, которого поднабралась, кружась вокруг директорской кухни. Более того, она не чуралась бы и сердечных дел Жофи. Ей важно было лишь обеспечить во вновь складывавшихся отношениях свое духовное и общественное превосходство. Она собиралась время от времени навещать приятельницу школьных лет жену механика Лака или двоюродную свою сестрицу — жену почтмейстера, которая, наезжая в Пешт, останавливалась всякий раз не в гостинице, а у них и теперь вынуждена была поддерживать родство. Эржи Кизела полагала, что ее рассказы о директорше, чуть ли не ближайшей ее подруге, а также связи ее с местной интеллигенцией произведут на Жофи должное впечатление, научат ценить ее снисходительность и не позволят третировать, не дай бог, как какую-нибудь прислугу, пристроившуюся в Пеште. Однако это добровольное монастырское смирение ставило Кизелу в тупик. Внимание было чрезмерным, сдержанность почти суровой, и, как ни льстило Кизеле столь явное уважение к ее особе, она предпочла бы видеть молодую женщину более откровенной, более склонной к задушевным беседам.
Но Жофи не отступала от изначально взятого предупредительного тона: «Оставьте, пожалуйста, я вымою сама». Напрасно Кизела, забегая к Кураторам, рассыпалась в похвалах: «Она просто чудо, ваша Жофика. Право же, многие дамы могли бы у нее поучиться, уж так скромна, даже слишком!» — до Жофи все эти поощрительные изъявления любви словно и не долетали. Бесчисленные истории из жизни Кизелы, которые должны были бы заворожить Жофику, сделать более обоснованной и в то же время более интимной ее почтительность, оставались нерассказанными. А между тем Кизела и сама уже полюбила скромную и тактичную вдовушку. И она решила, что отогреет ее. Видно, очень уж сильно ударила бедняжку смерть мужа.
Сперва Кизела попробовала приручить ее сына. «Ну, а ты, маленький гусар, куда скачешь на стуле?» — спрашивала она. Или, совершенно не поняв, что Шани изображает виденную на кладбище процессию с венками, вышагивая по комнате с подушкой на голове, вдруг окликала его: «Что это ты, обед несешь дедушке? Ты же не девочка, чтобы корзину на голове носить!» Она старалась подладиться к Шани, но он не издавал ни звука в ответ, застывал, словно заяц, совсем рядом увидевший вдруг ружье, и в черных глазах его метался лишь страх. Убежать он не смел, а ответить ему и в голову не приходило. Беспрерывные шлепки и окрики матери: «Молчи! Тише!» — сделали его совершенно бесчувственным по отношению к постоялице, так что здесь ей надеяться было на на что. Оставалось как-то умасливать самое Жофи.
Обычно Эржи Кизела подкарауливала ее во время стряпни или после обеда, когда Жофи гремела в тазу посудой. Под каким-нибудь предлогом Кизела выскальзывала из комнаты и останавливалась, чтобы поболтать по-свойски; она осторожно перебирала струны, отыскивая ту, на которой можно сыграть.
— А что, Жофика, после мытья посуды вы смазываете чем-нибудь руки? Я, пока занималась хозяйством, пользовалась глицерином. Потом-то покойный муж мой, правда, запретил мне посуду мыть и нанял девочку, что продавала у них в школе завтраки, она и делала в доме всю черную работу. А глицерин мне посоветовала директорша. Во время войны ей и самой посуду мыть довелось. Господин директор — он был тогда еще только учителем — отсиживал где-то в Сибири, а ее милость оставалась дома с маленькой дочкой. И представьте, коллеги мужа даже с довольствия ее сняли, даже того лишили, что ей было положено. Ну, да они с тех пор поплатились за это, она всех их из школы выставила, разбрелись кто куда. А вот моего покойного мужа, наоборот, полюбила, ведь он, бывало, нет-нет да и забежит к ней: «Привезли подметки для ботинок, не упустите случай!» Прежний директор сердился даже, откуда, мол, она знает про все, но, конечно, сказать ему было нечего. Зато при новом директоре никто не имел такого уважения, как мой Кизела. К нему и относились совсем не так, как к иному служителю, его место всегда было в конторе. Нужно там написать документ какой, господин директор и не зовет никого: дядя Кизела, мол, напишет. Да и величали его не иначе как господин вице-директор. Если дядя Кизела про какого-нибудь ученика скажет, что для нашего заведения он неподходящий, даже учителя против не шли. Ведь он каждого ребенка по имени знал, я сама удивляюсь, как только в голове у него все держалось…
Читать дальше