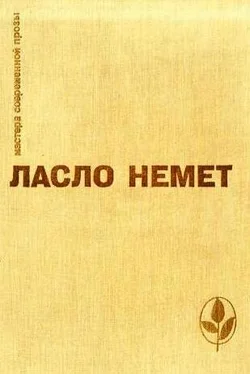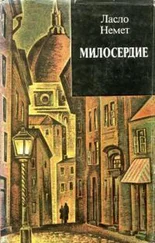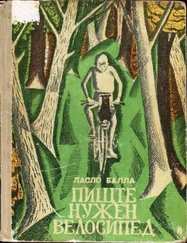Вся кровь бросилась в лицо Жофи; в мозгу пульсировало, словно билось там второе сердце, глаза затуманились. Никогда еще отец не признавался дочерям в своей отцовской привязанности. В детстве она была его любимицей, но и тогда он только и скажет, бывало: «Иди погуляй, моя помощница» или: «Вот моя помощница ужо принесет мне». И сейчас это «знаешь ведь…» прокатилось в ее душе, словно отзвук цимбала, сладостная тайна ее детства: стыдливая, чуждавшаяся слов их взаимная привязанность дрогнула где-то глубоко, пронизала ее насквозь. Охотней всего она бросилась бы сейчас отцу на шею да поплакала вволю. Сквозь стиснутые губы так и рвались слова: «Ваша правда, мне этого не выдержать, папенька! Не ведала я, на что шла, когда перебралась сюда. Я еще молода, чтобы век доживать под этим черным вдовьим платком!» Но когда отец произнес: «Лучше законный муж, чем чужая старуха под боком», что-то в ней словно оборвалось. У Куратора даже его пятьдесят лет не отняли славы охотника за юбками, и старый проказник, желая, как водится, уберечь, во всяком случае, собственных дочерей, часто с великим пренебрежением говорил при них о падких на мужчин бабенках: «Вот и у жены Йожи что-то чешется: ну да эта получает свое натурой». Молнией пронеслись в памяти Жофи подобные фразы, слышанные в девические годы, она взглянула вдруг на себя глазами отца, и теперь краска, выступившая на ее лице, была уже краской гнева. Может, отец думает, что она сбесится, если не выдать ее сейчас замуж? Выходит, он и ее среди тех бабенок числит, у которых «что-то чешется»?!
— Тут как-то уж спрашивал про тебя вдовец один… корчма у него в соседнем селе, — воспользовался тишиной старик, не глядя на покрасневшую дочь. Но сразу и пожалел, что затеял разговор, потому что по жаркому голосу Жофи, который звенел еще отчаянней от привычной с детства почтительности, сразу понял, что промахнулся и теперь не скоро можно будет вернуться к этой теме.
— Вы, папенька, берегли меня, покуда не было у меня самой довольно разума, а уж теперь я как-нибудь сама себя постерегу. Не бойтесь, не навлеку позор на ваши головы. И не нужно приставлять ко мне мужа, — проговорила она и насильственно улыбнулась, приглушая обвинительный тон своих слов.
Старый Куратор был и обижен немного, и смущен.
— Никто тебя не неволит, дочка, сама суди, как тебе лучше!
Он притянул Шани, посадил себе на колени и нахлобучил ему на голову свою шапку: в наступившей тишине разнесся полуиспуганный-полусчастливый визг малыша.
Посещение отца взбудоражило Жофи, надолго выбило из колеи. Она испытывала и что-то похожее на сожаление: пожалуй, не следовало так резко отталкивать от себя его советы. Как ни верти, отец желает ей добра. Правда, восстанавливая в памяти, что сказал отец и что она сказала ему, Жофи всякий раз снова вспыхивала и опять чувствовала себя глубоко обиженной. Не могла же она согласиться: правильно, папенька, пора бы подыскать мне кого-нибудь в мужья. Но все ж отвечать так грубо не стоило. Теперь уж отец сам никогда не заговорит об этом. Нет, Жофи не собирается замуж, куда там, но, пожалуй, не возражала бы, чтобы ее уговаривали: ведь если никто и никогда больше не станет ее уговаривать, дом этот превратится в склеп!
Но в то же время она радовалась победе. Вот и отец мог убедиться, что она не чета пресловутой жене Йожи, и, как ни печально было у него на сердце по дороге домой, все же он должен был испытывать что-то вроде уважения к ней: его дочь не такая, ей мужчина без надобности. Не будь отец сам столь падок на сладкое, он, может, и не оценил бы так ее строгих взглядов, но именно потому, что ему ведомо столько дурного — недаром же он сразу ее заподозрил, — именно поэтому приятно было показать, какова она есть. Теперь пусть себе стараются сплетницы, теперь он всем им заткнет рот!
Жофи почти не показывалась в деревне, разве что сбегает в «Муравей» за специями, но и там ни с кем в разговоры не вступала. И все же она почувствовала, что ветер задул в ее сторону. Уже и отца, судя по всему, присылала мать с мирной, так сказать, миссией, недаром, прощаясь, старый Куратор сказал дочери: «В воскресенье-то забеги, мать проведай». Немного нужно ума, чтобы понять: мать теперь судит о ней иначе, не так, как в прошлый раз. Но Жофи все-таки не пошла, только Шанику послала с работницей, которая принесла ей голубцов от матери. Пусть чувствуют: между ними кошка пробежала. Вместе с тем ее одолевало любопытство, была ли у родителей старая Пордан и как-то она теперь отзывается о ней. И что сказала свекровь, узнав про жилицу. Жофи представляла, как Пордан через калитку окликает свекровь и та, опираясь на палку, ковыляет к забору. Говорят, сидит она день-деньской в садике на плетеном стуле и наблюдает, как управляется с рассадой молоденькая невестка. И вот — подымается, подходит к забору, опирается на него локтями и так слушает Пордан. «Слыхали, невестка-то ваша жилицу берет, нашу Эржи», — начинает беседу Пордан. «Так скоро надоел ей жандарм ее?» — пробует завести старую песню свекровь, но Пордан теперь несколько иначе относится к вчера еще животрепещущей новости: «Да я уж и не знаю, как там оно было, может, только наговоры все! Зачем бы ей тогда в дом к себе постоялицу брать, тем более нашу Эржи?» Или еще решительнее: «Ну, видно, плохо вы знаете вашу невестку, если такое про нее думаете!» Впрочем, могло быть и так, что они только перемигнулись да ухмыльнулись понимающе, а шепотом договорили: «Пронюхала небось, что по селу разговоры пошли, ну, теперь в другом месте встречаться будут, вон какой простор кругом!» И перед Жофи на секунду возникла та летняя сцена в поле и кукурузные заросли за спиной с поблескивавшими на солнце листьями. Господи, и правда ведь, какой простор! Но тут же она содрогнулась: ох, а что, как эта пештская старушка передумает, ведь Пордан сразу заговорит по-другому. Не захотела, скажет, моя сестрица в таком доме жить, куда мужики молодые шастают.
Читать дальше