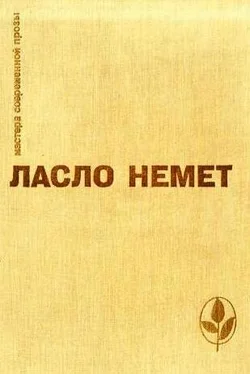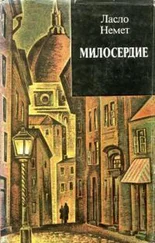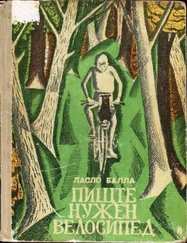Лайош остолбенело застыл в прихожей; он никогда бы не поверил, что этот тихий человек способен на такое. Когда его уши привыкли немного и он чуть еще придвинулся к двери, в вопле, казавшемся нечленораздельным, стали пробиваться отдельные слова и предложения. «Мало было этой тюрьмы? Ты и детей против меня настраиваешь? Чтобы и они это продолжали? Так что такое семья? Смирительная рубашка? Самое лучшее убиваете в человеке! Тряпки, вещи, пустяки остаются от жизни! Которая одна всего. Это же хуже, чем убийство!.. Лучше возьми заколи меня сейчас же! Хочешь, чтоб я по частям сгнил? Для этого ты за меня вышла? Ради этого отдал я молодость?..» Барыня некоторое время пыталась усмирить его решительностью. «Ты с ума спятил? Ты меня приводишь в отчаяние: что будет с детьми, если им такое придется видеть?». Но барина уже невозможно было успокоить разумными доводами. «Тебя я привожу в отчаяние? А я? Как ты это назовешь? Я гнию тут у вас на глазах. Вы на меня и не смотрите иначе как на кусок гнилого мяса, который можно вырыть и снова закопать, как экономные собаки делают с куском дохлятины». «Банди!» — взвизгнула барыня — и дальше она тоже могла только рыдать.
Лайош ушел в кухню и, сев на табуретку, стал ждать, чем все это кончится. Вскоре спустилась немка, и Тери с девочкой вернулись на свет. «Schreit er immer so?» [35] Он всегда так орет? (нем.).
— спросила гувернантка. В тоне ее были лед и осуждение — экий, однако, моветон! В детской проснулся Тиби, испуганно закричал в кровати. «Кристина, bitte, das Kind!» [36] Прошу вас, ребенок (нем.).
— сунула в кухню лицо, все в слезах и красных пятнах, хозяйка. Немка вскочила с еще большей готовностью, чем всегда, и в этой готовности презрения было еще больше, чем обычно. Плач ребенка мало-помалу проник в помутненный рассудок барина. Крики его перемежались все более продолжительными паузами и, затихая, из обвинений мало-помалу превращались в оправдания. «Зверя делают из человека. Ничего нельзя поделать, только, если уж через край, реветь, как зверь в западне. И почему я никак не умру!..» В редеющих вспышках уже слышался стыд, голос уходил обратно в свою берлогу, откуда вырвался так бурно. Лайош на своей табуретке размышлял, как это может выглядеть. Может, барин бросился на диван и задавил этот крик, прижав лицо к обивке, или, закинув голову, сидит в своем кресле, и только слезы катятся по щекам неведомо для него самого. Тери повела было Жужи в детскую: «Теперь можно. Папа больше не кричит». Но девочка отчаянно упиралась и, глядя на Тери испуганными глазами, повторяла только: «Нет, еще нет».
После истерики барина в доме воцарилась тишина. Словно охрипшая от напряженного крика глотка, дом несколько дней мог лишь только шептать. Барин быстро проглатывал обед и шагал обратно по грязи в институт; вечером, когда Тери впускала его, все были уже в постели. Ему стелили в кабинете; оттуда утром появлялись почти нетронутые чай и колбаса. Он не разговаривал не только с женой — прислуга тоже не смела без особой нужды к нему обращаться. Даже дети смотрели на него отчужденно и старались куда-нибудь убраться, чувствуя вокруг него ледяной пояс отлучения. Отлучение это не было делом рук барыни, следствием ее распоряжения или запрета. После ссоры люди и вещи просто встали на ее сторону, даже те, которые, как Тери, питали к барину симпатию. Барин сам отказался от них, укрывшись за тучами, не сходившими с его лица, и став слепым и глухим ко всему миру. Мебель, прислуга, дети видели душу, погруженную в горькую обиду, и жизненный инстинкт направлял их к тому, кто остался с ними в контакте. Этот контакт был, может быть, едва заметным, но в доме никто не сомневался в том, что он есть. Хозяйка в эти дни исчезала после обеда. Цепляющихся за нее детей она жалобным, замогильным голосом умоляла: «Не мучайте мамочку, у мамочки головка болит». Самое странное, что этот замогильный тон и тихие движения заразили и тех, кого семейная сцена мало касалась. Жужика на цыпочках приходила в кухню попросить воды, и Тери шепотом ругала Лайоша за уголь, рассыпанный на полу. Если перед этим в доме почти смолкла немецкая речь, то сейчас и те немногие слова, которые еще произносились, произносились по-немецки. Хозяйка жалобным голосом и держась за голову, отдавала распоряжения, гувернантка по-немецки передавала их Тери, и даже Жужика с испугу по-немецки разговаривала со своими куклами. Как будто после истерики барина дом окончательно перешел под влияние немки. За обедом ради нее холодно поблескивали вилки и ножи в трех парах немых рук, полированные стенки буфета подобострастно отражали ее бесцветные глаза; салфетки на столе, накидки на диване были жесткими, словно ее кружевной носовой платок, ежедневно подвергавшийся глажке.
Читать дальше