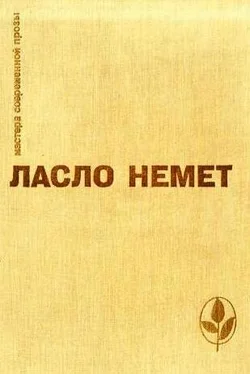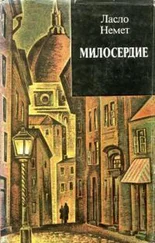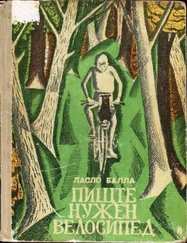В таком состоянии Лайош получил новое письмо от Маришки, «Дорогой Лайи, — говорилось в письме, — сообщаю тебе, что я уже не у профессора… Лежу я сейчас в клинике женских болезней, ноги у меня вторую неделю подтянуты кверху. Это мое письмо пишет тебе одна добрая женщина, которая сама лежала здесь, но теперь уже ходит и слышала, как я тебя поминала. Очень я больна, Лайи, описать даже не могу, что мне пришлось перенести, а доктора, кроме болезни, еще и другим пугают, чего я не могу тебе сказать. Бедная наша матушка, если видит она меня сверху, то-то плачет, наверно. Я теперь надеюсь, что все же смогу выздороветь, хотя один бог знает, что меня ждет тогда. А как ты там, дорогой мой братик? Все еще на старом месте? Смотри старайся изо всех сил, чтобы не остаться среди зимы без крова. Очень мне грустно, что не могу тебе помочь, но меня ведь тоже все бросили в беде. Деньги, которые у меня были, все кончились. Радуйся, что у тебя хоть здоровье есть. Напиши, если сможешь. Целует тебя любящая твоя сестра Маришка». Письмо пришло не на открытке, а в конверте; это тоже показывало, что Маришка в беде и сообщает в письме вещи не для чужих глаз. Брат, может, тут не все поймет, но люди поученей разберутся, что к чему.
Лайош в ужасе вертел в руке листок, исписанный незнакомым почерком. Когда он разобрал слова «в клинике женских болезней», он вдруг ослабел, словно увидел льющуюся кровь. Он вообще не мог о больнице думать без тошноты. Как-то в солдатах его отправили в больницу с чирьем, но он там чуть не задохнулся от тяжкого запаха. В словах «женские болезни» тошнотворный этот запах перемешивался с детскими воспоминаниями, с запахом испачканных кровью женских сорочек, которые, он, бывало, случайно вытаскивал из-под кровати или из угла и из которых пугающе глядели на него греховность, тайны, ужас женского бытия. Когда он смотрел на бледные руки Тери, мелькающие в электрическом свете над посудой, или вспоминал строгую лучистость сестриных глаз, эта пропитанная кровью суть женской жизни, являясь некой запретной темой, которой он не привык касаться даже в мыслях, никогда не всплывала в нем. Тери, Маришка, барыня были удивительными, высшего порядка существами, которые обречены участвовать в непостижимом для мужчины обряде, как бы платя вынужденную дань за данную им свыше красоту, и погружаться в общий кровавый женский ад, про который даже отъявленные бабники говорят без всякой охоты. Слова «женские болезни» напомнили внезапно Лайошу об этой темной, больной, стыдной половине женского бытия, и то, что сестра его находится в клинике женских болезней, было для него куда ужасней, чем если бы она лежала в любой другой больнице. О переломах, болезнях сердца, чахотке у Лайоша было относительно ясное понятие, женские же недуги все сливались в одну страшную болезнь. И если Маришка попала в эту клинику, значит, общее женское зло ее, такую молодую девушку, схватило и затянуло так глубоко, как редко-редко выпадает на долю одной или двум бабам в целой деревне.
Он все читал и перечитывал — то машинально, то с вновь обостряющимся вниманием — письмо сестры, и перед ним возникла окруженная рубашками в засохшей крови кровать служанки в доме на улице Агнеш, а на кровати, за спиной неудобно примостившейся с краю Маришки, вырисовывалось на одеяле темное пятно от ее тела. Кровать служанки и клиника в его воображении явились не как причина и следствие — скорее как средняя и высшая ступень темной беды, подстерегающей женщин. Эта беда, это зло подкралось к Маришке еще тогда, когда она, такая грустная, спускалась под руку с Водалом с горы Гуггер. Это зло смяло постель за ее спиной, оно теперь обрекло ее на неподвижность в сегедской клинике. «Ноги у меня вторую неделю подтянуты кверху», — врезалась в него при очередном чтении страшная строчка. Зачем надо подтягивать ноги больной женщине? Может, чтобы у нее не вышла вся кровь? Ему виделись тяги с гирями, какими поднимают в больнице сломанные ноги; так же, должно быть, распялены и ноги сестры. Что она вынесла, пока ее так уложили? Кто знает, может, в ее теле орудовали какими-нибудь железными инструментами. В солдатах кто-то у них рассказывал, что женщин в таких больницах ковыряют огромными железными ложками. Наверно, в самом деле плачет на том свете мать по бедной Мари. Лайош не понял намек на то «другое», чем доктора пугали сестру, но в нем мутным кошмаром клубился сейчас, сводя зубы, весь женский ад с его кругами от горы Гуггер до распяленных ног. Вспомнил он и сцену в подъезде, про которую так туманно говорили в день переезда барыня и Тери. Хозяйка тоже посылала Тери в больницу, и каблуки ее уже стучали по темной улице, когда барин послал жену вдогонку. Так выбежала, наверно, и Маришка — с той разницей, что за ней-то не послали никого. Тот старый хрыч профессор отпустил ее, а может, даже прогнал. «Вы же понимаете, милая, вам теперь нельзя оставаться в моем доме». Наверняка так все и было — ведь пишет же бедняжка, что ее оставили в беде.
Читать дальше