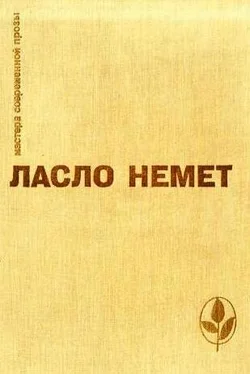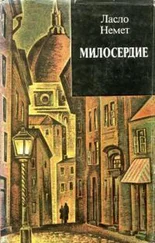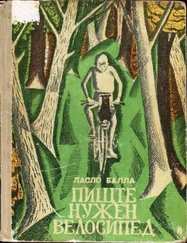Я, например, очень даже хочу иметь дом для себя, для своих книг, для своей семьи. Но дом этот пускай выделит мне такой строй, который я бы считал справедливым». — «Дома распределяет не строй, а неустройство», — отвечал гость, уже входя в дом.
Лайош остался возле входа на участок, глядя, как вечерний воздух постепенно наполняется туманом. Когда гость уходил, он остановил его. «Дозвольте спросить, барин: не вы ли гуляли тут летом по улицам?» — «По этим? Вполне возможно». — «Еще стихи какие-то вслух читали?» — «А что?» — «Мне один барин пятьдесят филлеров дал; очень оголодал я тогда и спросил, нет ли работы». — «Вы полагаете, это я был? — посмотрел на Лайоша длинный барин. — Вы разве не слышали, что я против чужой бедности закален? Пятьдесят филлеров? Нет, друг мой, не я». Лайош недоверчиво глядел ему вслед, пока непокрытая седая — голова гостя не растворилась в тумане. Неужто и вправду не он был? Или признаться не хочет?
Лайош мало что понимал в туманных речах господ. Большая часть услышанного, если б он и стал размышлять над ним, только напрасно измучила бы его бедный мозг. Например, что такое: дом в душе должен иметь фундамент? Или: дом строится из упорства? Душа в понимании Лайоша прежде всего означала дыхание, которое стынет зимой в груди, а в час смерти отлетает на небо. Ну и, кроме того, она означала что-то хорошее, доброту, что ли, которая приводила сестру летом к Кооперативу. Много такой доброты пряталось за насупленными бровями Шкрубека. «Душа не лежит», «у него нет души» — много таких выражений слышал Лайош. Из-за этой вот доброты поминали душу и священники в церкви, о ней говорилось в молитвах. Душа — это была и порядочность, честность; скажем, Водал был хорошим, душевным, пока Маришка не уехала в Сегед. В нем было много теплого, дружелюбного, отчего и рука его была такой ласковой, когда ложилась Лайошу на плечо; эта душевность и рабочих заставляла Водала уважать. Но как дом может иметь фундамент в душе? Как дом может строиться из упорства? «Ишь, до чего упорный». Лайош это слово слыхал лишь в таком сочетании, и оно означало: упрямый, настырный. Упорство нельзя взять и вылить в раствор, словно воду. Тщетно бы ломал Лайош голову и над тем, почему это барин не верит в деньги. Если в деньги не верят, значит, они фальшивые. Но как могут быть деньги фальшивыми вообще? Разве не дают за них в лавке колбасу, чулки, болты? Даже более простые выражения доставили бы ему немало головной боли. Скажем, случается человеку надорваться. Но рядом с «заслоном» «надорваться» теряло понятную связь с тяжелым мешком на спине. «Заслон» же — это известное по солдатской службе слово, за ним стояли цепи, окопы; мешки, клеенчатые деревенские диваны и окопы, которые Лайош рыл в лагерях, растерянно бы взирали друг на друга, если бы он попробовал вникнуть в смысл речей тощего гостя. «Заставил служить бы своим капризам» — это тоже было как длинный какой-то коридор: пока мозг Лайоша добрался бы до конца, богатство, которое гость хотел заставить служить капризам, давно бы где-нибудь потерялось. В нем смутно отдавалось, что бесчеловечность приходилось брать на себя государству, но странная эта связь слов пугала его. Ну а фразы вроде «Ваша совесть — ответ на ропот» поднимали в нем лишь такой же темный вихрь протеста, как в детстве, когда девчонки, раздевавшие его в соломе, на своем тайном языке «ко» переговаривались между собой: коне кого-ково-кори копри кола-койо-коше.
Однако у Лайоша и в мыслях не было мучить себя, разгадывая господский птичий язык: разум его снабжен был особой пленкой, вроде той, что есть на глазах у кур. Когда в господской беседе мелькали трудные выражения, пленка, мгновенно мигнув, закрывала мозг. Так что внимание его превратилось в сплошное мигание, и это сказывалось и на том, как он держался. Он то стоял на краю перекопанного, словно тяжелой бурой рябью подернутого участка, уйдя в себя, как голые, черные деревья за оградой; то что-то вздрагивало в нем, и, не сменив позы, он становился воплощением напряженного внимания. Подобно тому как в иностранной речи мы слухом улавливаем только то, что знакомо, так Лайош вырывал из разговора то одну, то другую понятную фразу и, быстро устав, принимался грызть и обсасывать ухваченную кость, лишь искоса жмурясь на мелькающую перед ним хозяйскую руку, словно пес, которого слишком долго дразнили лакомыми кусками. И пусть добыча его была не так уж велика: рисуя потом в бельевой или листая «Дьявола с железным клювом», он мог спокойно заняться ею, и в конце концов что-то все-таки складывалось, получалась более или менее цельная картина.
Читать дальше