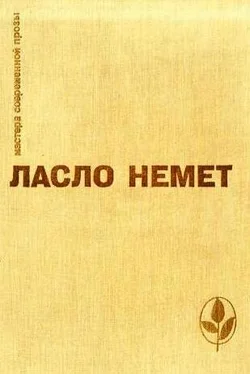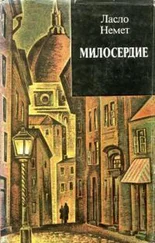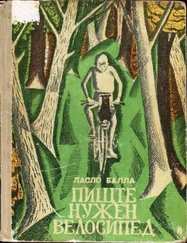— Папенька такой сердитый, такой!.. — всхлипывая, заикалась она. — Сказал, что изобьет и из дому выгонит, если еще раз…
— Да пусть делает что хочет, хоть все тут передеритесь, мне до вас дела нет! Но ко мне больше не являйся. Не затем я в чистоте берегу имя мужа своего, чтобы ради тебя сплетницам на язык попасть из-за ухажеров твоих лошадиномордых! — Она нарочно выкрикнула это громко, чтобы и мать услышала у себя на кухне, и быстро вышла, оставив Маришку с ее горем.
— На ручки! Возьми на ручки! — крикнул Шани привычным требовательным тоном, когда мать не отозвалась уже на третью его попытку заявить о себе, а его короткие толстенькие ножки никак не поспевали за шуршащей черной юбкой. Но Жофи так сильно дернула сына за руку, что обе коротышки-ножки оторвались от земли и он на протяжении нескольких шагов плыл вслед за матерью, словно кукла.
— Еще и тебя тут тащи! — вызверился на него из-под черного платка сухой, незнакомый голос, и Шани, вероятно, почуял в нем нечто совершенно особенное по самой своей природе, потому что даже хныкать перестал. С испугом и изумлением в черных, как жучки, глазах семенил он за своим переменившимся вдруг провидением. Отставал иногда, но тут же подбегал, нагоняя мать, так что рука Жофи то оттягивалась назад, то опускалась свободно. Как будто это был не ее Шани, как будто кто-то чужой поручил ей своего спотыкающегося на каждом шагу ребятенка — возьми, мол, отведи домой. Близким и родным ей в эту минуту был только ее гнев. Дурные слова так и рвались из-за прикушенных губ. Девочкой Жофи с недоумением слушала, как мужчины бессмысленно, вслепую швыряли друг в друга грубою бранью, и вот теперь поняла сквернословов. С каким удовольствием она ругалась бы сейчас вслух самыми последними словами! «Так тебя не оскорбляли еще никогда», — кричало отчаянно колотившееся сердце. Ведь всякое бывало — и свекровь из дому выжила, и сестра Илуш, с тех пор как овдовела Жофи, сразу нос задрала. Жофи сердилась на них, жаловалась на судьбу. Но все это было не в счет: она скорей сама бередила себе душу, выискивала, смаковала обиды. Однако это последнее оскорбление было поистине невыносимо — оно жгло, словно вспыхнувшая пламенем одежда, которую надо любой ценой сбросить с себя.
— Даже чести моей не щадят! — бормотала Жофи вполголоса, швырком ставя перед Шани тарелку с оставшимся от обеда соусом. Она даже не желала сравнивать две картины — сцену у забора, какой была она на самом деле, и ту, которую нарисовала ее мать. Она помнила только огромность нанесенной ей обиды и гневными словами старалась заслонить то, что произошло в действительности, возмущалась преувеличенно, чтобы тем вернее смыть воспоминание о чем-то теплом, что возникло в ней под ласковым, веселым взглядом старшего сержанта. Жофи терзалась мыслью, что в этот самый час, быть может, в десяти-двадцати домах треплют ее имя. Она словно видела: вот крестная Хорват наливает молока жене механика Лака, — и слышала захлебывающуюся скороговорку последней: «А ведь Жофи Куратор недолго выдержала без мужчины!» И тут же звучал у нее в ушах голос крестной, в котором за родственным недоверием скрывалось поощрение сплетнице: «Люди болтают всякое, не такая девушка была Жофи». Жофи видела даже стол с молочными кругами от бидонов, видела жену механика с ее горбатым носом, неугомонную балаболку. А свекровь, наверное, за ужином подкалывает своего разиню Йожку, молчком уписывающего колбасу: «Жофи-то уже не так высоко нос дерет, ей теперь и старший сержант хорош». Старый Куратор хмуро вылезает из подвала с жестяным бидоном. Мать перехватывает его во дворе, потому что в доме, при Мари да при холостом сыне, не поговоришь. «Это ты, что ль, Янош?» В темноте мать совсем не видит. И Жофи опять слышит ее голос будто у самого уха: «Не хотелось при детях рассказывать… поговорила я с Жофи». Теперь ненависть Жофи обрушивается и на отца, он как бы сливается для нее со свекровью и с женой механика. Пожалуй, своих она ненавидит сейчас даже сильнее, чем всех прочих. Ведь и они не дают ей покоя в эту ужасную ночь, наполненную домами, домами, и в каждом доме под лампою люди, и все они с наслаждением перемывают ей косточки…
Сын уснул, и от его посапывания лишь глубже стала тишина в комнате и тревожнее за окном враждебно притаившаяся ночь. «Загашу лампу, не то подумают, что у меня Балаж». (Жофи назвала его по фамилии, как будто и этим отдаляя от себя. До сих пор он жил в ее мыслях как старший сержант: за этим виделась и ловкая его осанка, и блестящий футляр на штыке, и улыбчивые глаза. А «Балаж» — что-то совсем чужое: обыкновенная фамилия, вот и богардского управляющего так зовут.) Она даже не дала себе времени приготовиться ко сну и поспешно задула лампу. Потом сбросила платье и словно забылась, не стала раздеваться дальше. Жаркие фразы вспыхивали в мозгу: она стояла перед свекровью и бросала ей в лицо двадцатилетней давности сплетни о ней самой. И от злости говорила ей «ты». Потом — жалобно, но настойчиво! — просила отца снова забрать себе ее надел, «а уж я как-нибудь, стану по людям ходить стирать, своими руками заработаю для сыночка, что ему нужно, а вы ничего, ничего нам не давайте больше!». Потом мимо нее прошел старший сержант, и она отвернулась резко, так, чтобы люди видели…
Читать дальше