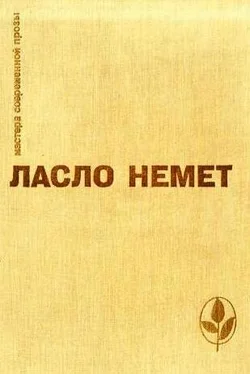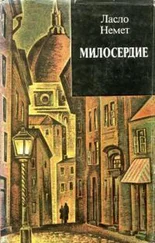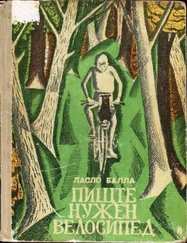«Я слышу, старый хрыч уговаривает вас сад обрабатывать». — «Да что из того, если нет денег», — печально махнула рукой барыня. «Кое-кто взялся бы и дешевле», — со значением сказал Лайош. Хозяйка бросила на него взгляд и ответила лишь: «Я и так знаю». Они помолчали. «Коли бы вы мне эту работу дали, я бы вскопал за сорок, — выдавил Лайош, измученный этим молчанием, — и деревья бы посадил», — добавил он, вспомнив доводы Даниеля. Барыня поежилась в своем свитере. Судя по ее лицу, она не спешила хвататься за предложение. «Мы еще поговорим об этом, Лайош, ступайте пока работать». Из ванной, под малярной кистью, Лайош то и дело выбегал в соседнюю комнату посмотреть на барыню в окно и попытаться на ее лице прочесть приговор себе. Но та разговаривала с мастеровыми, подписывала какие-то бумаги, показывала инженеру пятна на штукатурке, ничем не выдавая, что в голове ее решается сейчас его, Лайоша, судьба. Однако в обед она подошла к нему. «Вот что, Лайош, в октябре все равно нужен будет сторож; получите тридцать пенге и заодно сделаете все. Денег у меня больше нету, но еда, одежда какая-нибудь найдется». Лайош положил ножик и соленый огурец рядом с собой и привстал с носилок. Так, ни стоя, ни сидя, он улыбался хозяйке, пока она не отвернулась.
«Что это ты там сделаешь заодно?» — с любопытством спросил хромой, выковыривая кончиком ножа свиные шкварки из жестяной кружки. «Я-то?» — переспросил Лайош, словно вопрос был самый пустяковый. Он чувствовал — хромой будет зол на него, что он получил работу при доме; поэтому он старался скрыть свою радость. «Да вот люцерну им переверну немного», — ;сказал он спустя некоторое время. Хромой сунул кружку в мешок, защелкнул ножик, молча поднялся и ушел. С тех пор как Лайош швырнул наземь колбасу, они все больше остывали друг к другу.
Несколько минут Лайош с таким выражением разглядывал белесую пленку на пупырчатой коже огурца, словно что-то не совсем все-таки было в порядке с этим садом… Поденщики уедут к себе в Сентэндре, а он останется тут, будет работать. Что здесь дурного? И все же радость его почему-то не была безоблачной. Однако Водал уже кончил с едой, надел свой фартук и с темным лицом (желтизна которого, словно синяк, в последние дни все больше переходила в черноту) двинулся к дому в лучах играющего беспризорными листьями осеннего солнца. Лайош ходил с ведром, нагибался, стоял, снова тащил ведро — и все раздумывал о том, как он преподнесет Тери свою новость. «Еще помозолю я вам глаза немножко, Терике». — «Как так?» — «Сад вот взялся перекопать за аккордную плату». — «Так вы и в садовом деле разбираетесь?» — «А вы не знали, что я самостоятельный хозяин, с виноградником? От матери мне остался целый хольд да еще хольд перейдет от крестной. Я потом и деревья выберу в питомнике. Под окно вам посажу плакучую иву». — «Почему иву?» — «Чтобы напоминала обо мне…»
Примерно так записан был невидимыми буквами этот разговор на черном полу, забрызганном известью и штукатуркой; в действительности же он вообще не состоялся. Водопроводчик как раз уходил домой, когда Тери в своем резиновом плаще появилась возле стройки на дороге, прочерченной с обеих сторон длинными фиолетовыми тенями телеграфных столбов. Хоть бы ребенка к матери сначала отвели, бессовестные; нет, прямо там, на краю участка, остановились болтать, а малыш ковылял меж ям и кирпичей. Тери лишь взглядом вручила его матери. Но Лайоша футболист теперь не раздражал так сильно, как, бывало, раньше. Он даже с некоторым превосходством поглядывал на них — словно некий богатый деспот, который уже сторговал у матери красавицу дочь и теперь наблюдает со злобным удовлетворением, как его нареченная в последний раз млеет под луной с хлыщом ухажером. Скоро водопроводчик заканчивает свои дела — и пусть потом другим показывает свои фотографии с голыми ногами; а он, Лайош, остается еще на шесть недель по крайней мере в свободном от рабочих доме. Во всю длину улицы Альпар, до креста, заблестят лужи, во дворе станет грязно, дождь плотной завесой скроет от них даже соседний дом. Тогда и его пустят погреться на кухню, и Тери будет улыбаться ему — вот как сейчас, протягивая для пожатия руку, улыбается водопроводчику.
Вечер выдался особенно холодным, и поденщики жгли костер дольше обычного: не хотелось уходить от тепла. По двое прокрадывались в лесок воровать хворост. Чтобы пламя охотней вгрызалось в сырые ветки, их надо было перемешивать с валежником. «Иней ляжет к утру», — заметил кто-то. «Пора, пора вам, братцы, по домам, — откликнулся Даниель. — Мухи вон уже дохнут, скоро дойдет и до поденщиков очередь». «Да мы-то по домам бы с радостью, — рассуждал редкоусый, — если б вот только и субботу с собой взять». «Уберешься так, без всякой субботы», — бурчал недовольно серб. «Кто поумней, тому не надо и домой идти», — сказал в наступившей тишине хромой, который был непривычно молчалив за ужином. «Что, благотворительную кухню для кого-то откроют?» — спросили из темноты. «Что кухня… Подъехать надо уметь к господам, сад взяться перекопать за тридцать пенге. Денег, вишь, у барыни больше нету, зато еда, какая-никакая одежонка найдется…» По тому, куда не глядел в эту минуту хромой, все догадались, кому адресованы его слова. Свет костра вырвался на миг за пределы круга, и взгляды скрестились в нем таким образом, что в центре оказался Лайош, застывший на корточках, сам словно язык рыжего пламени. Лица, похожие на раскаленные куски железа, косо расчерченные тенями, с выпукло высвеченными, низко срезанными тьмой лбами, всматривались в него — неужто в самом деле за тридцать пенге? Лайош поднял испуганный взгляд на Даниеля, стоявшего по другую сторону костра. Ему показалось: тот сейчас вынет из-под себя палку, на которой устроился перед костром, и прямо через огонь швырнет в него и все, кто сидит вокруг, толпой набросятся на Лайоша. Другие тоже один за другим повернулись к Даниелю, ожидая, какой он вынесет приговор. Тот лишь молчанием выдал свою обиду; понадобилось время, чтобы через нее снова пробил дорогу привычный насмешливый голос. На землю Хорватов Даниель смотрел как на свои владения: ему, живущему по соседству, сам бог велел рассчитывать на этот заработок. «Тридцать пенге? — повторил он медленно. — Столько же за Христа было заплачено». Лайош с облегчением видел, как раздвигаются рты и в коротком смешке обнажаются зубы, белые и почерневшие. Значит, не будут бить. Однако Даниель не был намерен так дешево уступать свой заработок. «Такие вот и сбивают нам плату, — сказал он. — Вон сколько здесь работы с землей. За тридцать пенге тачку бы нельзя было соглашаться подымать». «Это уж точно», — выразил общее настроение редкоусый, радуясь, что можно безнаказанно позлорадствовать. Остальные молчали. Молчал даже серб, уйдя в собственную тяжелую тень и лишь протяжными вздохами прополаскивая глотку, грудь, нос. Лайош дождался, пока разговор перейдет на другое, и, взяв свое одеяло, ушел в дом. И там улегся прямо на черный пол.
Читать дальше