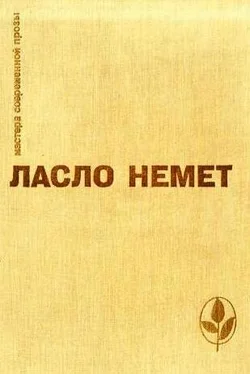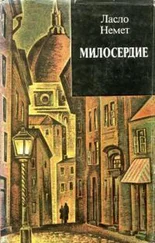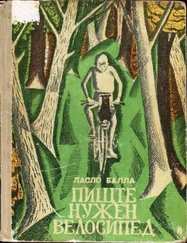Впервые после смерти Шандора подумала она о новом замужестве. Но тут же вспомнились и слова свекрови: «Свободы захотелось, вот и потянуло прочь из мужнего дома». Что ж, а если б и так?.. «Но ведь не так!» — восставала вся ее гордость. И разве сможет она забыть мужа! Не такой он был у нее, чтобы просто-напросто взять да и забыть. Нет, никто никогда не посмеет попрекнуть малыша его матерью — мол, она у тебя такая да этакая. Жофи долго глядела на сладко посапывавшего ребенка, который спал, закинув к головке крепко сжатые кулачишки. «Крохотка моя, единственное мое утешение!» — пробормотала она вполголоса с комом в горле и наклонилась, чтобы поцеловать высунувшуюся из-под одеяла розовую пятку.
Но вот эта ночь миновала, хотя Жофи не сомкнула глаз до утра. Постепенно она привыкла к потрескиванию матицы, где неустанно трудились древоточцы, и к длинным теням, отбрасываемым неспокойным огоньком керосиновой лампы. Она низко склонялась над спящим Шани, и тень ее платка дрожала на стене над кроватью. Будь она уже старой, не покарай ее господь смолоду так жестоко, сидела бы она в такие вечера с Библией в руках, почитывала не спеша — но сейчас не было у нее иного дела, как чинить чулочки сыну да шить ему белое пальтишко, точно такое же, как у аптекаревой Беци. Когда Жофи спрашивали, как ей живется, она ни словом не поминала о своих вечерних терзаниях.
— Да полегче стало с тех пор, как не приходится на побегушках быть кой у кого. По мне, хоть бы никого и не видеть, лишь бы птенчик мой со мной был.
Это «хоть бы никого и не видеть» относилось, конечно, к старой Ковач — пусть ей передадут, нос ей утрут!
В действительности же общество «птенчика» было куда как однообразно и утомительно. Когда Жофи, погруженной в свои горестные мысли, вспоминалось, что есть у нее сын, ради которого только и стоит жить на свете, она начинала тут же лепить ему человечка или собаку из кусочка теста, оставшегося от лапши, или принималась играть с ним во время купания, покуда не заливала водой все вокруг — стены, плиту, пол кухни; в такое время Шани на самом деле был ее единственной в жизни радостью, как она уверяла себя. Однако игры с сыном занимали от силы полчаса, а то и меньше. Нельзя же было день-деньской только и делать, что радоваться Шани. Но едва веселый стих покидал ее, Шаника тотчас превращался в маленького сорванца, который вечно путается под ногами и поминутно отрывает ее от работы бесчисленными просьбами и капризами. «Мамочка, а что ты делаешь?», «Мамочка, а что это?», «Мама, дай!» Жофи не хотелось объяснять, зачем просеивают муку через сито, и не могла она позволить Шанике взять в ладошку яичный желток. Но что-то сказать ему было нужно: «Муку просеиваю, деточка», или: «Ой, это нельзя трогать, это фу, бяка, испачкаешься!» Шани, однако, подобные полуответы только побуждали к дальнейшим расспросам; он настаивал, а иной раз и сам пытался получить необходимые ему сведения. И вопросы его, и даже внезапная тишина, грозившая взорваться грохотом разбитой посуды, не отрывали Жофи от работы или от мыслей, но раздваивали ее внимание, и она погружалась в какое-то неопределенное дремотное состояние. Часто она и сама с недоумением ловила себя на странной рассеянности, из которой ей удавалось вырваться лишь с помощью искусственных приступов веселости.
В этот первый период самостоятельной жизни она открыла для себя Мари, младшую сестру. Мари была медлительная девушка с большими, как у теленка, глазами, уродившаяся скорее в мать, тогда как Жофи и средняя их сестра, невеста, унаследовали жаркую сухощавость отца. Когда Жофи, выйдя замуж, покидала родительский дом, у Мари под носом вечно висела капля и ее приходилось заставлять умываться. Но за последний год она поднялась словно на дрожжах, расцвела и в пятнадцать лет выглядела так, что в пору и под венец. Лицо у нее, предрасположенное к полноте, осталось по-детски круглым и добрым, но так и дышало зрелостью, а кожа словно натянулась, розово просвечивая молодой кровью. Мари была послушная дочь, и часто прихварывавшая мать, да и будущая супруга нотариуса с радостью сваливали на нее работу по дому, она же успевала еще помогать по хозяйству старшему брату Пали. В этой оперившейся, разбогатевшей семье она одна оставалась по-настоящему крестьянкой. Работящая и терпеливая, она ни на кого не сетовала, разве что высказывалась иной раз дерзко по поводу вышивок сестрицы-невесты. Но ее ворчания даже не замечали — весь дом был словно заворожен счастием Илуш.
Читать дальше