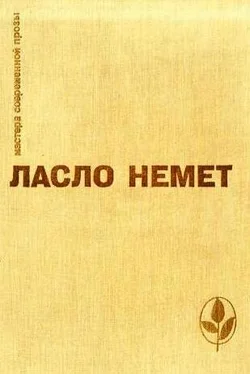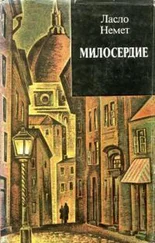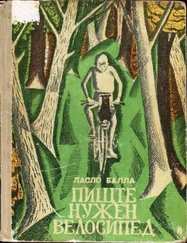Вечером, когда он, отодвинув доску в заборе, хотел проскользнуть в сад, его остановил смех: среди яблонь маячили белые брюки и белое платье. Видно, прибыли хозяева виллы, и он лишился своей беседки. Теперь у него не было совсем ничего, только будильник в мешке, который он, словно улитка свой домик, таскал целый день на спине. Впервые Лайош почувствовал отчаяние. Вот, значит, ради чего он всю зиму, вдыхая запах конюшни, слушая хруст овса на лошадиных зубах, шептал магическое слово «Матяшфёльд» — чтоб теперь оказаться под забором, без работы, без друга, изгнанным с последнего пристанища. Был какой-то король, которого звали Матяш [16] Матяш I, Корвин (1443–1490) — венгерский король; в период своего правления укреплял центральную власть, покровительствовал наукам и искусству.
, и место, названное его именем, раньше казалось Лайошу обетованной землей. Думалось, простой человек в этом Матяшфёльде и на крохах с чужого стола проживет. Теперь он проклинал это место заодно с его названием и даже в том, что остался без работы, винил спесивое это село с его садами и виллами. Нет, надо в Пешт идти; там, в шуме и суете, он скорей отыщет себе какую-нибудь работу, чем здесь, среди дач и железных оград. От мысли, что пойдет в Пешт, он так осмелел, что тут же двинулся в путь. Луна освещала у дороги табличку с названием «Матяшфёльд», невдалеке от которой, в кустах, догнивала сума, принесенная из дому; и вновь зазвучали вокруг обнадеживающие голоса, те самые, что по дороге из родного его села разносили весть про Лайоша Ковача. Вдруг он остановился, словно кто-то крикнул ему вдогонку: «В Пешт бежишь? К сестриной юбке?» Было мгновение, когда он едва не повернул обратно. Но дорога уже захватила его, подчинила себе, ноги тянули вперед вопреки голове. В конце концов голова сдалась, найдя оправдание ногам: Пешт велик, хватит в нем места и сестре, и ему, и не обязательно им беспокоить друг друга.
Начинало светать, когда он вышел в Пеште на набережную Дуная. Скалы на горе Геллерт испещрены были рыжими пятнами; внизу, на реке, полуголые люди выкатывали с барж металлические бочки. Лайош топтался на берегу, возле места, где шла разгрузка, и в теле, ноющем после целой ночи ходьбы, разливалось тепло новой надежды. Только теперь он почувствовал, что это такое — быть в середине огромного города. Когда он двигался к Пешту, сначала лишь звезды как будто сгустились перед ним на матово-черном небе, потом между редкими фонарями на обочинах все чаще стали возникать еле различимые в темноте дома, затем он стал замечать и людей, мелькающих перед гремящими грузовиками; пройдя огромный стеклянный фасад вокзала, он уже мог видеть дворников, вытаскивающих на улицу мусорные корзины, и провожал их глазами во мрак подворотен. Возле Дуная вдруг стало совсем светло. Река получала свечение словно бы и не с небосвода, а приносила в широком русле с собой: желтые быки мостов, скалы в рыжих потеках, просыпающаяся Крепость — все это, будто только-только поднявшись из вод, стояло умытое, в струях стекающего с боков жидкого света. Сияющая стремнина прибивала к набережной неповоротливые суда, из темных их зевов поднимались наверх люди и бочки, и на палубах барж, где люди и бочки сцеплялись и двигались вместе, у Лайоша на глазах прорастало, пускало побеги, чтобы вскоре оплести весь город, ползучее, цепкое растение — труд. Пока Лайош шел по окраинам, под редкими фонарями и тускнеющими в свете зари звездами, он лишь для успокоения совести твердил про себя: что б ни случилось, а к сестре он ни за что не пойдет. Но, увидев рыжие полосы скал возле Дуная, выкатываемые с барж бочки, он действительно успокоился. Скоро на набережной завизжат канаты, невдалеке, в ресторане, уже точат ножи, в многоэтажных домах поднимают решетки ставен. Быть не может, чтобы в этом огромном городе он не смог обойтись без Мари.
Лайош нерешительно приблизился к мосткам возле одной из барж и подождал, пока грузчик, выкатив бочку, поставит ее на попа рядом с другими. «Вы не знаете, я бы мог получить здесь работу?» — обратился Лайош к его спине. В первый момент до того не дошло, что к нему обращаются. На нем были лишь черные трусы, вроде спортивных, и стоптанные башмаки. Голые ноги его были жилисты, волосаты, черны от загара; ноги эти, меж белой каймой на трусах и завязанными на щиколотках шнурками ботинок, выглядели, как и весь человек, выносливыми, но измученными и нетерпеливыми. Когда прозвучавший вопрос дошел наконец до его сознания, одурманенного рано прерванным сном и тяжелой работой, грузчик обернулся, осклабился, положил руку Лайошу на плечо, чтобы выиграть время, пока в голову придет какой-нибудь удачный ответ. «Работу? Вполне можешь. Подожги-ка вот, что мы выгружаем!» И уже с мостков крикнул: «Сиволапый!» Лайош возмущенный стоял меж железных бочек с керосином. Что себе позволяет этот мошенник! А знает он, что Лайош в солдатах служил? Он думает, раз человек из деревни, с ним, значит, можно так разговаривать? Лайошу хотелось крикнуть этой паршивой барже, что у него полхольда земли есть от матери да еще после крестной останется кое-что. На мостках показался пожилой грузчик; за огромной бочкой и за тележкой своей он походил на муравья, который тащит куда-то свое яйцо. Не дождавшись, пока он поставит бочку, Лайош обратился к нему: «Строительный рабочий я, из Матяшфёльда. Не знаете, где тут поблизости стройка?» Тот на мгновение остановился со своей тачкой, но беседовать у него не было никакой охоты. Так как руки его были заняты, он лишь головой мотнул, что могло означать и «откуда я знаю», и «на той стороне, в Буде». Потом он поставил бочку и на обратном пути еще раз внимательно оглядел Лайоша, не сказав ни слова. На барже он поравнялся с тем, помоложе, они обменялись какими-то фразами, посмотрели на Лайоша и засмеялись. Лайош, не дожидаясь насмешек молодого грузчика, медленно пошел дальше по берегу, глядя по сторонам — чтобы дело не выглядело так, будто он спасовал. Он был обескуражен, но изо всех сил старался не падать духом.
Читать дальше