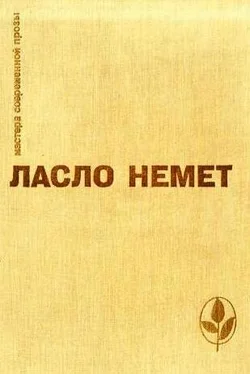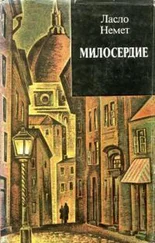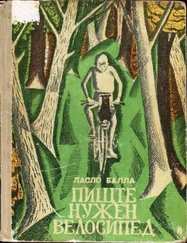Прошла неделя, другая, а ответа на открытку все не было. Лайош вначале ждал терпеливо, потом даже обиделся. Он в солдатах чуть ли не в денщики к «господину строителю» записался, желания его выполнял ревностней, чем распоряжения офицеров. Когда тому мыло для бритья требовалось или вакса, он и увольнений своих не жалел, иной раз дважды в день мотался из лагеря в город. Другие, бывало, смеялись над ним, видя такую услужливость, ведь «господин строитель» тоже был рядовым, хоть и из «старичков». Однако Лайош крепко запомнил его обещание: «Ты, Лайош, не беспокойся, у тестя моего для тебя всегда будет работа на все лето, так что и на зиму сможешь кое-что подсобрать». А сам даже не отвечает теперь. Может, с адресом что-нибудь не так? Или просто тот знать о нем не желает? Он от верного места вон отказался из-за него; да еще со вдовой этой попал в переплет, понадеялся, что все равно сбежит до того, как придется сказать последнее слово.
Ответ все не шел и не шел, и Лайошу вдруг подумалось: а что, если ответил ему приятель, только крестная перехватила письмо. Не первый раз не дают ему уехать в город. Просился он туда еще несколько лет назад, когда помер отец и сестра пошла служить в Пешт. Но Маришка сама тогда написала домой: смотрите, Лайи не отпускайте сюда, не для него это место. Маришка, можно сказать, вместо матери Лайошу была, растила его, воспитывала при овдовевшем отце; мудрено ли, что Лайоша к ней на легкие хлеба тянуло больше, чем в грязную Мельникову конюшню. Да что поделаешь: это ведь Маришке выпало счастье, не ему. Ну ничего, он еще покажет себя, выкарабкается наверх и своими силами, ради этого он и за «господина строителя» так уцепился… Чем больше думал он над всем этим, тем меньше у него оставалось сомнений насчет перехваченного письма. А когда тетка, выглянув как-то во двор, сказала: «Вон и Мари, сестра твоя, пишет, что надеется, ты уже бросил эту затею насчет Пешта», он уверился окончательно в правильности своей догадки.
Зима в том году выдохлась рано: с журавля над колодцем шлепался вниз отсыревший снег, и вода в ведре, из которого Лайош умывался по утрам, была уже не такой обжигающе студеной. Больше Лайош не мог себя сдерживать. На конюшне, под изголовьем своей постели, он припас сухарей, принес с чердака старую суму теткина мужа, даже попону приготовил, укрываться ночами. И когда тетка однажды за ужином, подняв голову от картофельной похлебки, принялась рассуждать, что, дескать, если он не хочет жениться, так стоило ли тогда отказываться с нового года от найма, Лайош решился. Проснувшись среди ночи, он поднялся, повесил на плечо суму с сухарями и, крадучись, выбрался из деревни. Месяц так мирно и ласково лил свет на лысую макушку колокольни, что Лайошу захотелось сделать что-нибудь хорошее, необычное, что потом долго можно было бы вспоминать. Из блокнота, где записаны были адреса сестры, «господина строителя» и одного парня, с которым он тоже подружился в солдатах, Лайош вырвал листок и написал что-то вроде прощального письма Веронке, про которую крестная уже несколько лет как велела ему позабыть. Лайош давно не думал о ней всерьез; но теперь, когда он покидал деревню, и, может быть, навсегда, душой все-таки потянулся к ней. «Не так бы должно было все это кончиться, — писал он, — да кое-кто захотел по-другому. Ты знаешь, про кого я думаю». И для верности добавил: «Про крестную». Но пока он это писал, размягченное настроение его начисто улетучилось. Веронка наверняка покажет его письмо подружкам, и, если слухи дойдут до крестной, не оставит она на него свой домишко и полхольда [11] Хольд — венгерская мера площади, 0,57 га.
виноградника к материну наследству. Лайош вырвал листок и вложил его обратно в блокнот, рядом с засушенной фиалкой, как еще одно напоминание о несбывшейся мечте своего сердца.
Весь путь до Пешта он проделал за три дня — даже быстрее, чем рассчитывал, хотя башмаки его скользили на раскисших дорогах, а из мокрых стогов, куда он закапывался ночью на короткий отдых, его несколько раз выгоняли собаки. Но в солдатах привык Лайош подолгу шагать без отдыха и теперь, без выкладки, и не замечал, как уходят назад километры. В первое утро, когда он отправился в путь, его нес как на крыльях переполнявший сердце восторг; дорога, бегущая через лужи, отражающие синее небо, меж деревьев, брызжущих яркой капелью, словно бы уводила его вверх по склону сияющей сказочной горы, и вокруг какие-то бестелесные голоса звенели и пели: сегодня встает твое солнце, Лайош Ковач, покажи всему миру, каков ты есть. Лайош не думал уже ни про перехваченное письмо, ни про то, что ждет его в Матяшфёльде: путь его вел в весну, и свобода была ему и едой, и питьем. Однако радостный этот подъем временами сменялся (пока Лайош шагал все по одной и той же плоской равнине) сумрачными низинами, где легенда о пропавшем письме вдруг теряла свою убедительность и предприятие матяшфёльдского друга казалось призрачным, нереальным, будто облака испарений, плавающие вечерами над зарослями прошлогодней травы. Что с ним станет, если он не получит работы? Хлеб скоро кончится, а домой ему теперь возвращаться заказано. В такие минуты кто-то внутри детским, неуверенным голосом повторял адрес сестры: «Холм роз [12] Холм роз — название одного из районов Будапешта.
, улица Агнеш. Служит у профессора». Лайош сердито отмахивался: под забором помирать будет, а Маришке не доставит хлопот.
Читать дальше