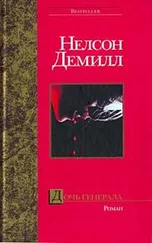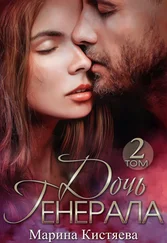…За парным чаем с липовым медом и ванильными сухарями они сидели в махровых халатах до пят. На голове девушки белела чалма из скрученного полотенца. Румяное лицо без следов косметики сияло яблочной свежестью. Голос после активной вокальной тренировки стал звонким и мелодичным.
— Столько переживаний всего за несколько часов, — пропела она контральто, — это здорово!
— Друзья, — сказал поэт, — это знак свыше: Наташа сюда пришла — ой, неспроста. Что-то будет.
— Сереж, а что ты написал? Можно послушать?
— Не жмись, гений, — встрял Борис, — облистай народ поэзой.
— И правда, Сереж, побалуй нас, — кивнул Вася и занял место у нового белого холста, невесть когда поставленного взамен прежнего с эскизом «скандинавским, мясистым».
Сергей встал и профессионально побледнел. Затем потянулся сперва рукой, а потом всем телом куда-то вправо-вверх. Его чуть хрипловатый осмелевший голос взлетел туда же, отражаясь от апельсиновых стен упругим эхом. Поэт сразу изменился, стал ничьим, сильно вырос, а за его спиной словно выпростались мощные крылья. Он пел и стонал, внезапно переходил на шепот — и вновь взрывался раскатистым громом. То вдруг замолкал, устанавливая тишину, в которой громко стучали сердца, а кровь шумно струилась по жилам, — то снова обрушивался мощным приливом, будто океанская пенистая волна…
«…тридцать Первая любовь»
Посвящается Галине,
которая в 18 лет
вышла замуж за нищего
инвалида-художника
Мне говорили старые друзья:
«И что нашел ты в этой мышке серой?»
А я молчал, и сам не понимал,
Что вышел за обычные пределы.
Я изучил телесную «любовь»
И был циничным, грубым и липучим.
Но сердца лёд не растопил огонь,
Зажженный Эросом, животным и дремучим.
И вот явилось это существо!
…Нечеловечески тиха и световидна,
Как бабочка прозрачна и невинна,
Как море неохватно глубоко.
Как многое впитало и несло
Такое хрупкое телесное созданье!
И треснуло, расселось мирозданье,
А сердце потеплело, ожило.
О, сколько сладких мук я пережил,
Ночей бессонных испытал круженье
Пока сумел озвучить предложенье,
Пока ответ обратно получил.
Она была тиха и простодушна,
Стояла близко — руку протяни.
Но, лишь касаясь ступнями земли,
Парила в иномирности воздушной.
Встречались наши руки и глаза
И опускались, будто от ожога.
Я знал, что ты робка и недотрога —
— в себе такого не подозревал.
Ты освещала и преображала,
Все, чего рука твоя касалась.
Воздухом твоим легко дышалось,
И вокруг тебя жила весна.
Когда мы были вместе, всё вокруг
Живое, гибкое — тянуло к нам ладони
И солнце выходило из заслона,
И ночью звезды завершали круг.
Мы проживали день за целый год,
Неслись недели, обгоняя свет.
Минута, замирая, длилась век.
И знали мы, что это ненадолго.
… Она меня тогда впервые обняла,
прижалась так, как будто умирала,
и плакала, и руки целовала.
Все объяснила и… к нему ушла.
А я кричал ей вслед!
А я вздыхал ей вслед.
А я шептал ей вслед:
«Хоть сердце и болит,
Прости, любимая,
что я
…не инвалид!..»
— Только, чтобы написать такой стих, стоило родиться, — прошептала девушка, в полной тишине.
— О, несчастная! — прогудел Борис, но взглянув на Наташу, спешно пояснил: — …Девица та, что к Васькиному коллеге ушла. Уходить, так к прозаику! Красивому и подающему надежды…
— Сережа, это автобиографично? — спросил Василий, шмыгнув носом и промокая рукавом глаза.
— О чем вы! Бросьте препарировать тайну! — взревел чей-то голос, и все резко оглянулись. В дверях, опершись плечом на дверной косяк, стоял высокий блондин в элегантном белом костюме с мужественным загорелым лицом.
— Валентин! Брат! — хором закричали сожители.
— Вот решил соскучиться. Заглянул на огонек, и кажется не зря. Серега, если бы это для тебя что-нибудь значило, — сказал Валентин, шагая к поэту, раскрыв объятья, — я бы тебе белый «мерс» подарил за эти вирши.
— Если поэту машина не нужна, могу я получить, — заботливо предложил Борис.
— А теперь что-нибудь эдакое, родное! — сказал Валентин. — Чтобы душу согрело!
— Вот это я, Валь, тебе написал. Называется «Разговор с другом» — поэт опустил голову и задумчиво, немного нараспев прочитал:
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу