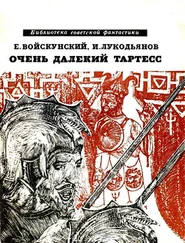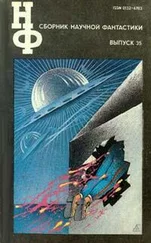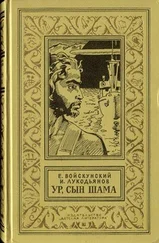Душная, нехорошая ночь была перед отплытием. В раскрытый иллюминатор не шла прохлада, а вливалась бесконечная перебранка. Что-то на пароход грузили. Ругались на татарском, армянском, русском языках. Хлопали где-то винтовочные выстрелы. По палубе над головой всю ночь гремели шаги, шаги, шаги…
Заснули Тиборги лишь под утро, а когда проснулись, пароход уже вышел из Бакинской бухты. Стучала в его недрах машина. В иллюминаторе колыхалось зеленовато-голубое открытое море. А койка Наденьки была пустая.
Так-то. Понимаете, не могла она, вот просто была не в силах покинуть Баку. Взять и выбросить из души, из жизни все, что любишь… к чему привыкла… Нет! Дождавшись, когда родители уснули (а Ирка давно уже сонно сопела), Надя тихонько оделась и с туфлями в руке неслышно вышла из каюты. Вахтенному у трапа молча сунула единственную свою ценность — медальон с золотой цепочкой. И, сбежав на пристань, растворилась в предрассветных сумерках.
Страшный переполох поднялся в каюте у Тиборгов, в каюте у Стариковых. Обыскали весь пароход. Анна Алексеевна рыдала, требовала, чтобы капитан повернул обратно.
Но пароходы обратно не поворачивают.
Глава двенадцатая
Баку. Сороковые годы
Помню: Калмыков впервые появился у нас на Пролетарской на майские праздники 1942 года. Мне тогда еще не исполнилось шестнадцати, училась я в школе на Красноармейской, в восьмом классе, и помню, как завидовала некоторым девочкам, которые приносили с собой завтраки — белый хлеб с маслом. Мы с мамой жили бедно. Так бедно, что у меня туфель не было — из старых я выросла, и пришлось носить папины, довольно изношенные, коричневые полуботинки на шнурках, подкладывая в их носы скомканные газеты. О белом хлебе и масле мы и не мечтали. Мама работала в Каспаре — Каспийском пароходстве, — что-то по культмассовой работе, зарплата ничтожная и продовольственная карточка соответствующая. Вообще после папиной высылки мама очень присмирела, всего боялась, ее громкий голос приутих, в нем появились раздражавшие меня жалкие нотки.
Калмыков же, напротив, был громогласный, очень, очень уверенный в себе. На нем ладно сидела гимнастерка, перетянутая ремнем с поскрипывающей портупеей и револьвером, сапоги сверкали. У него были жизнерадостные красные губы и вьющиеся черные волосы. Когда он привлек меня к себе, сказав: «Похожа, похожа на мать», и чмокнул в щеку, я ощутила запах тройного одеколона. Он походил, знаете, на знаменитого певца и киноартиста Бейбутова.
С Калмыковым в дом пришла сытость. Он приносил белый хлеб — о господи, с каким наслаждением я ела белый хлеб с тоненьким слоем масла. Ничего вкуснее не было в моей жизни, чем белый хлеб сорок второго года! И еще мама стала покупать на базаре зелень и сыр и даже принесла однажды полкило абрикосов. Нет, вы не поймете, что означал для меня сладкий оранжевый абрикос…
Осенью они поженились. Калмыков переехал к нам со своими чемоданами, большой коробкой с сапогами и мандолиной. Он удочерил меня. И стала я с той поры Калмыковой. Было странно и как-то неприятно расставаться с привычной фамилией Штайнер. Но я замечала, что моя немецкая фамилия не нравилась некоторым людям. Учитель математики, недавно появившийся у нас, фронтовик, списанный подчистую по ранению, явно воротил от меня нос. «Штайнер, к доске, — вызывал он и наставлял на меня правую руку в черной перчатке. — Хенде хох! — добавлял он, неприятно осклабясь. — Пиши уравнение…»
Да, уж лучше быть Калмыковой…
Мама потребовала, чтобы я называла Калмыкова «папой». Рассказала, что знакома с Григорием Григорьевичем с семнадцатого года и что он «просто чудом» не попал в сентябре восемнадцатого на пароход «Туркмен», на котором ушли в Красноводск комиссары, — иначе было бы их не двадцать шесть, а двадцать семь.
Это, конечно, здорово, что он уплыл из Баку не на «Туркмене», а на другом пароходе, ушедшем в Астрахань, а потом, в двадцатом году, с Одиннадцатой армией вернулся в Баку и вот — снова встретился с мамой, которую, как он говорил, никогда не переставал любить, — все это было хорошо, но называть его «папой» я не смогла. Не шло с языка это слово. Оно принадлежало одному, только одному человеку с тихим голосом, в пенсне… Пенсне поблескивало на жгучем июльском солнце, и, когда эшелон тронулся, отец неуверенно взмахнул рукой… до последней моей минуты будет тревожить душу этот прощальный взмах…
Нет, Калмыков не стал мне отцом, но я уже была достаточно взрослой, чтобы понять, что его женитьба на маме была для нас благом. Мама снова обрела уверенность, ее голос позвучнел, и повадка вернулась почти прежняя.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу