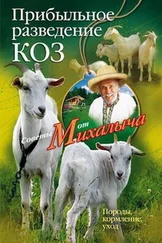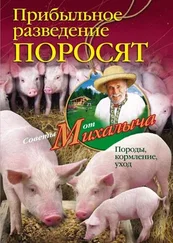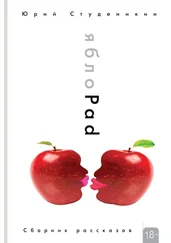В колоде воспоминаний тасуются пустячки, ерунда всякая, а не важное, не ключевое. Может быть, мелочи, которые с гравюрной четкостью врезались в память, и есть главное, а то, что считают главным, как раз наоборот — чепуха? Мне кажется, что я помню все. Да только разве все перескажешь? Мне это, во всяком случае, не под силу. Однако мысль про пьесу втемяшилась мне в голову очень крепко. До трагедии наша с тобой история, конечно, не дотягивает, для комедии — маловато в ней веселого и смешного, а «фарс» — слово, которым образованные люди оскорбляют друг друга в гневе. Так что пусть останется просто — пьеса.
Я и на действия ее уже разбила, на акты: первый — знакомство, «скверный» день, суворовец, идущий с девочкой по аллее, вокзал; второй — наша переписка, «почтамт, до востребования»; третий — твой внезапный приезд прошлой весной, столь многое поломавший, жалобы на то, что тебя берут в армию с весенним призывом, не дают шанса еще раз попытаться поступить в институт, новая, не оборудованная еще почта, хитрый тамошний сторож-инвалид, маслянистая его рожа; четвертый — рождение сына и события вокруг этого, а веселыми их не назовешь; пятый — моя сегодняшняя ночь, финал пьесы о нас с тобой. О последних двух ты знать не должен. Вранье я прекращу, но каяться… нет, увольте, хватит!
Все равно не сумею. То есть я пробовала. Раньше. Столько раз написать хотела, во всем признаться! Не получилось… А когда ты сообщил, что тебя берут в армию, а потом пришла телеграмма, что ты на два дня приедешь в командировку, — в телеграмме, адресованной «до востребования», есть что-то нелепое, правда? — я было совсем решилась: расскажу ему! Но…
У себя, в таинственном «городе заборов», ты, чтобы набрать производственный стаж и просто без дела не болтаться, работал в узле связи, поближе к технике, получал за это восемьдесят, что ли, рублей, — я когда услышала об этом, едва не расхохоталась тебе в лицо: ведь сама-то я, слабая женщина, против тебя зарабатываю вдвое! В городских гостиницах места для вас, конечно, не нашлось, уж там-то ждут постояльцев посолиднее, и областное почтовое начальство отправило вас двоих, приехавших за какими-то блоками, ночевать в новое, еще не до конца оборудованное почтовое отделение в Северо-Восточном районе, где окна были прикрыты газетами, а паркетный пол затоптан до черноты, — туда-то, накупив всякой всячины, мы и поехали вечером на такси, не могла же я пригласить тебя в общежитие…
Ты хмуро объявил, что нам повезло: твой товарищ — он ведь был старшим над тобой, да? — отправился ночевать к дальним родичам, ибо обожал комфорт и не собирался ночь напролет валяться «на голых досках», пропади они пропадом, эти блоки! И еще ты, помявшись, вполголоса сказал мне, что я должна разыграть роль твоего отсутствующего товарища перед хромым сторожем-хитрованом, который, конечно, сразу смекнул, в чем дело, и стал держать себя с наглой покровительственностью, не переходя, однако, последней черты, ибо зачем тогда его стали бы даровой водкой поить? А выпить ему хотелось, ах, как хотелось, и он хлопотал: застелил заляпанный известью стол газеткой; стулья приволок — с высокими спинками, скрипучие, чуть живые; вспорол рыбные консервы ножом, порезал хлеб и колбасу с сыром, быстренько сорвал с бутылки золотистый колпачок, набухал себе стакан, нам плеснул понемногу, ну, будем живы, детки, и пошел-поехал про свои военные подвиги говорить.
Ты заметил, что с каждым отпитым глотком командиры, которые благодарили его за геройство, целовали перед строем в уста и вручали ему награды — какие именно, он не уточнял, — командиры эти неуклонно повышались в чине? Майор, полковник, генерал-лейтенант. Меня, помню, так и подмывало спросить, кололись ли у них при поцелуях усы, однако мы зависели от этого старого болтуна, и я промолчала. А уж когда он до самого маршала добрался, командующего фронтом, водка кончилась, и свою, маленькую, для «сугрева» припасенную, он уже выпил, пора ему было исчезать, однако он не спешил, тянул время, ме-едленно вытирал свой складной нож о клок газеты, кряхтел, а потом намекнул: рублишко бы ему, на утреннюю поправку! Ты, морщась досадливо, сунул ему какую-то бумажку, и он ушел, пообещав утром, еще до прихода рабочих-строителей, разбудить нас — стукнуть в окошко.
Ты запер за ним далекую, гулко захлопнувшуюся дверь, вернулся и тоже стал говорить, махать руками. Я слушала и молчала, не смея взглянуть на утеху здешних сторожей — клеенчатый большой диван, очень старый и очень неуместный в этой большой казенной комнате с высоченными потолками. О, ты столько говорил, что мне пришлось встать, подойти и погладить тебя по голове. Мне давно этого хотелось…
Читать дальше