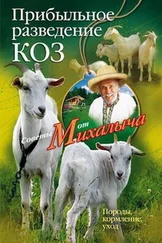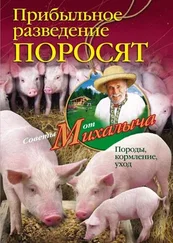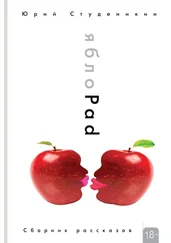«Через годик!.. — горько подумала я, глядя ему вслед, в спину, обтянутую бурым плащиком с погончиками на плечах, купленным, надо полагать, в «Детском мире» — в отделе, где продают одежду для подростков. — Какая же это уйма времени — год! Срок, не оставляющий надежд. Триста шестьдесят пять суток, да в каждых — двадцать четыре часа. Как вольно обращается он с этой глыбой времени! Осмеливается что-то предполагать, планировать, шутит весело… Счастливчик или глупец? А я, а со мной что будет «через годик»?..» Именно тогда у меня начиналась пора великих страхов. Целая эра! Неотвязные, они днем и ночью преследовали меня. Страшилась боли, боялась умереть при родах — разве не случается? Да сколько угодно! Но больше этого, больше всего другого я страшилась произвести на свет урода.
Родила царица в ночь
Не то сына, не то дочь;
Не мышонка, не лягушку,
А неведому зверушку.
Вот, мой Салтан, какая мысль преследовала, грызла, глодала меня, как голодный пес в углу гложет кость. Много тому способствовала осень — самое серое, грязное, плаксивое время года. И — одиночество. Я ушла в декретный отпуск, получила денежки, половину из которых девочки-соседки сразу же расхватали взаймы, однако к матери не поехала, не решилась, и почти все время проводила в нашей комнате, среди трех кроватей одна, стараясь пореже попадаться старухам вахтершам на глаза, чтобы не давать им лишних поводов для злословия.
О, эти пустые гулкие дни! Они тянулись невыносимо медленно, будто верблюжий караван в пустыне. Если бы не ты, Володя, и не белобрысый Васька Трефилов, который томился тогда на бюллетене и тоже не знал, куда девать себя, я бы, наверное, с ума сошла. Сразу же! Зазевавшемуся Ваське фрезой оторвало фалангу безымянного пальца левой руки, а с трех других пальцев снесло ногти, и все жалели его, особенно Катька: «Ой, Васек! Как же ты теперь на гитаре-то играть будешь?» А он, отшучиваясь, махал пухло забинтованной кистью: «Ничего! Губную гармонь куплю — я видел в «Культтоварах»!..» — «Валяй, — усмехалась Катька, которая обычно помыкала им, будто купчиха мальчиком из лабаза. — Ты у нас, Васенька, и без того на Ганса похож, а уж с гармонью губной и вовсе фон дер Пшиком станешь…»
С Васькой мы, если с утра не было проливного дождя, отправлялись в кино, ходили на все фильмы подряд, без разбора, и я полюбила дневные сеансы: билеты дешевы, очереди за ними нет, зал наполнен зрителями в лучшем случае только наполовину, и можно пересаживаться — менять места, а когда покидаешь кинотеатр под шарканье подошв и негромкое хлопанье освобождающихся сидений, то на выходе нужно моргать и щуриться — до того ярок и серебрист даже пасмурный осенний денек! Ваське первому я изложила свою версию «капитан — дальний гарнизон», и он, кажется, в нее поверил — без оговорок, слепо, не в пример своему слишком проницательному соседу по комнате, владельцу жаркой кроличьей шапки, не умеющему галстук завязать. А еще мы с Васькой килограммами ели дешевую ливерную колбасу — ба-альшие оказались любители! Но милый, добрый и немножечко бестолковый Васисуалий О’Ливер, как я однажды назвала его вслух, хотя сама никак не меньше его заслужила такое псевдоирландское прозвище, вскоре заскучал, выписался на работу, и у меня на долгие дни остался только ты, Володя, верней — мои письма к тебе: авиаконверты в косой сине-бордовый рубчик; из надорванной, изрядно отощавшей пачки торчат безжалостно белые нелинованные листы…
Ох, уж эти письма! Выдумывать что-то и облекать свою выдумку в слова, даруя ей тем самым право па призрачную, сомнительную полужизнь немногим легче, чем говорить и писать правду о людях и о себе, всю правду, а не только ту малую часть ее, скудный паек, которым мы привыкли довольствоваться обычно. Много, ох, много разных книг мне пришлось проглотить, немало бумаги перепортить, пока я поняла, нет, всей кожей почуяла, позвоночным столбом, что самое главное — не слова, нет, что цепочка слов — лишь пунктир, флажки на волчьей облаве, граница, за которой трепещет и блистает она, великая правда о человеке, — граница, точно очертить которую способна лишь рука гения, что и здесь, как в квантовой механике, правит свой принцип неопределенности, что путь человека к самому себе — цепь бесконечных приближений: что-то всегда остается непойманным, всегда покажется неуловимым. А сколько раз я, измотанная поединком с бумагой, ничком бросалась на кровать, а когда из-за живота моего делать так стало нельзя, то к окошку, и, бездумно отодвигая занавеску, пялилась на сырой и унылый городской пейзаж: окна, трубы, крыши, детские грибочки, слепящую вспышку электросварки вдали, тропки между домами…
Читать дальше