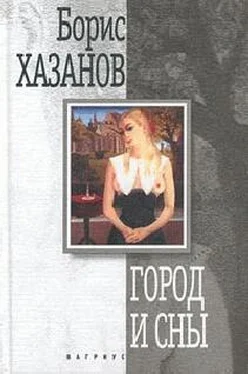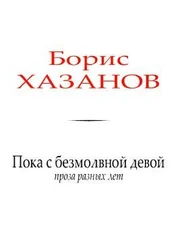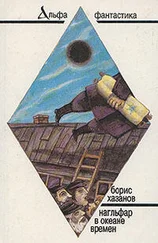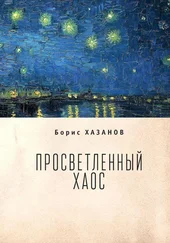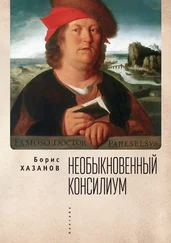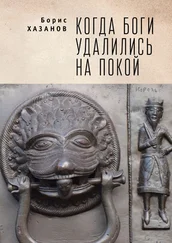Ровно в назначенный час, минута в минуту, автомобиль подъезжает к дому, с исключительным мастерством, змеиным маневром водитель вклинивается в плотный ряд машин, заставивших улицу. Хлопают дверцы. Постарайтесь не опаздывать, этого требуют не только вежливость и пресловутая немецкая точность, но и практическая необходимость: хозяйка не хочет, чтобы блюда остыли. Гости переходят из гостиной в столовую. Гости стоят, ожидая, когда хозяйка укажет каждому его место за столом. Хозяева садятся на двух противоположных сторонах. Блюда по кругу передают друг другу. Хозяин разливает вино. Типичная немецкая кухня – это все знают – довольно пресная. Обед начинается с бульона с клецками или супа-пюре. Мясо и рыба обычно вареные, к ним полагается довольно скучный, хотя и разнообразный гарнир. Впрочем, в разных районах страны есть свои гастрономические пристрастия и свои названия кушаний. Потчевать гостей не принято; каждый берет себе столько, сколько хочет. Оставлять еду на тарелке не полагается. Обычай заканчивать обед сыром пришел из Франции; настоящий, то есть традиционный, немецкий обед завершается сладким блюдом: кремом или чем-нибудь в этом роде. Крепкие напитки если и употребляются, то после еды. Скованность окончательно исчезает, когда выпито положенное число бутылок божоле, золотистого мозельского или франконского, и разговор переходит на политику.
* * *
Как– то раз произошел забавный случай. В Мюнхене перед студентами университета выступал довольно именитый советский писатель. Он рассказывал о том, как писатели в СССР борются за восстановление храмов, разрушенных после революции. Желая дать понять слушателям, чту это был за вандализм, он сказал: представьте себе (и показал на окна), что в этом прекрасном городе уничтожены все церкви.
Представить трудно. Между тем, о чем гость не подозревал, именно так обстояли дела в 1945 году, когда столица Виттельсбахов лежала в развалинах. И не только она. Возмездие, постигшее Германию в минувшей войне, была таково, что его можно сравнить разве только с катастрофой Тридцатилетней войны. Но тогда не было воздушных налетов. Геринг хвастал, что ни один самолет союзной авиации не проникнет в воздушное пространство рейха. К концу войны не уцелело ни одного сколько-нибудь крупного города. Гамбург, Берлин, Аахен, Эссен, Дортмунд, Дюссельдорф, Мюнстер, Майнц, Франкфурт, Кассель, Нюрнберг, Вюрцбург были разнесены в щепы. Дрезден погиб в одну ночь, тысяча двести гектаров руин осталось на месте красивейшего из европейских городов. Под обломками погибли, задохнулись в дыму пожаров 60 тысяч человек. Престарелый Гауптман видел зарево на небе с крыльца своего дома в Силезии.
Гуляя сегодня по старому Кельну, вы едва ли поверите, что одна из последних военных сводок гласила: «Войска оставили поле развалин, некогда называвшееся городом Кельном». Посреди этих развалин, словно огромная выщербленная и черная от копоти сосулька, стоял шестисотлетний собор.
Ряд обстоятельств привел к тому, что приблизительно с середины 60-х годов Западная Германия стала одним из трех экономических гигантов мира. Это значит, что общество развило невиданный динамизм.
Жизнь меняется очень быстро. Жизнь изменилась даже за те двенадцать лет, что я живу здесь. Вот две бросающиеся в глаза, хоть и совершенно различные приметы: компьютерная революция и превращение национального государства в полиэтническое общество, в страну иммигрантов. И однако традиционный уклад, отечество в бытовом и интимном смысле слова, то, что философ и семиотик Вилем Флюссер назвал святилищем привычек, отнюдь не ушло в прошлое. Европейцам вообще значительно трудней поспеть за непрерывным кризисом традиций, за шумным и пестрым карнавалом перемен, чем американцам, за спиной у которых нет долгой истории. По сей день в Баварии живы реликты классического бюргерского и даже феодально-сословного общества. Можно добавить, что это единственная из немецких земель, где народный костюм – часть быта. Как встарь, облик Германии определяют маленькие города. (Деревень в русском смысле слова здесь нет. ) С известной долей условности можно сказать, что эта самая высокоразвитая страна Европы – страна провинциальная.
Тот, кто живет в Германии, знает, что это страна лесов, гор, дождей и туманов, страна, постепенно спускающаяся от Альп к северному и балтийскому побережью, страна, где на юге бывает холодней, чем на севере, лунная страна, лишенная счастья принадлежать к миру Средиземноморья, страна людей, которых не вдруг поймешь, у которых мещански-трезвый, экономно-расчетливый образ жизни неожиданно сочетается с мечтательностью, самоуглубленностью, непредсказуемостью, страна романтических ландшафтов и страна музыки. Пение в хоре, игра на музыкальных инструментах есть нечто обычное и обыденное, почти само собой разумеющееся, любовь к музыке воспитывается с детства, и знание классики, умение слушать серьезную музыку и наслаждаться музыкой – вовсе не привилегия интеллигентной элиты. При огромном числе концертных залов они никогда не пустуют. В Мюнхене на Королевской площади перед тысячной толпой устраиваются концерты на открытом воздухе. В любом городишке есть по крайней мере оркестр школьников. Музыка исполняется в церквах. Существует несчетное количество музыкальных ферейнов. Мне не раз приходилось бывать на домашних концертах, в них участвуют и любители и профессионалы; домашнее музицирование не смогли убить ни радио, ни телевидение, ни магнитофоны и компакт-диски. Не зря некоторые из знаменитых немецких романов похожи на музыкальные композиции. И если Францию и Россию принято считать литературными странами, то в немецкой культуре доминирует музыка.
Читать дальше