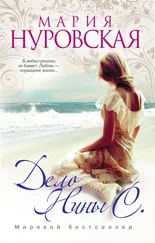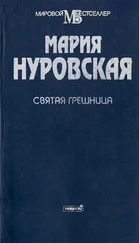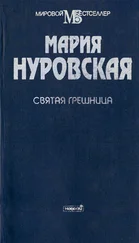— Скажите, Александр, откуда вы знаете этот фильм «На последнем дыхании»? Это ведь кино моей молодости. Тогда этот фильм был жутким авангардом… теперь, наверно, его и смотреть нельзя без улыбки.
— Саша знает все фильмы, — ответила за него Надя. — Он жить не может без кино.
— Да-а? Но ведь в кино тот же самый вымысел, что и в литературе.
— В кино нельзя обманывать, — отчеканил он. — Сразу станет видна самая малейшая фальшь. Даже если бы творцы вывернулись наизнанку, народ не поверит. А литература способна затуманить глаза! Пару недель назад посмотрел фильм вашего знаменитого режиссера Анджея Вайды «Перстень с орлом в короне».
— О, вот вам прекрасная иллюстрация того, что касается фальши и правды, — встрепенулась я. — Когда Вайда лгал, кривил душой в «Пепле и алмазе», снятом по фальшивой книге Анджеевского, получился шедевр, произведение искусства. А когда захотел исправиться, сотворил нечто курьезное… Он даже вставил в свой «Перстень…» сцену с поджиганием спирта у стойки бара. В «Пепле…» эта сцена потрясала: Мацек зажигал поминальные стопки-свечи, называя по очереди имена погибших друзей. А в «Перстне…» из этого вышла какая-то пародия на самого себя, карикатура. Да еще актер, который старательно подражает голосу Збышека Цыбульского, сыгравшего Мацека в «Пепле…» … брр… готова богу молиться, лишь бы меня больше никогда не заставляли смотреть этот ужас…
— Согласен, фильм плохой, но, быть может, именно в этом фильме Вайда играл не на своей скрипке, пел не своим голосом. В советском кино не удалось создать столь полнокровный, убедительный образ коммуниста, какой Вайда создал в «Пепле и алмазе». А что, если этот комиссар Щука — alter ego режиссера?..
— Партийного секретаря, — машинально поправила я.
— Я его назвал так, как назвал.
Вдруг до меня дошел смысл его высказывания.
— Вайда — коммунист? Что вы плетете? Его отец погиб в Катыни!
После этих слов Александр покраснел и так грохнул кулаком по столу, что мы с Надей подскочили на стульях.
— Ну невозможно, невозможно разговаривать с поляками! Обязательно в дискуссии рано или поздно всплывет Катынь! Но почему, почему именно с этим обращаются ко мне, российскому историку? Катынь — это преступление всего человечества, результат его преступного молчания!
— Сашенька… — робко попыталась заикнуться его подружка.
— Заткнись! — взревел он, одним глотком допив вино и со стуком отставив бокал. — Терпеть не могу баб… и не уважаю! — прибавил он.
«Если на то пошло, еще совсем недавно ты был советским историком и молчал как миленький».
И в этот момент произошло нечто невообразимое.
— А я не молчал, уважаемая пани Юлия, не молчал, — громко сказал он.
Официант принес счет. Я было протянула руку, чтобы взять его, но Александр опередил меня:
— Это мое дело!
— Но ведь пригласила вас я.
Он посмотрел на меня с прищуром, взгляд его был ледяным.
— Я вам не альфонс. Не хватало еще, чтобы женщины за меня платили.
Все, с меня довольно: и общества Александра, и его покорной, глядящей ему в рот подружки. Мы возвращались с ней в отель одни. Он, рассчитавшись по счету, встал и пошел прочь, удаляясь все дальше и дальше.
Куда он так ринулся по улице — плечи подняты, руки в карманах, — непонятно. Надя звала его, но он даже не обернулся.
— Вы не сердитесь на него, — сказала девушка. — Такой уж он у нас, Александр Николаевич…
— Не знаю и не хочу знать, какой он, ваш Александр Николаевич, — сухо бросила я.
Общение с моими новыми знакомыми явно плохо на меня действовало — я никак не могла собраться с мыслями. Лежа в кровати, пыталась что-то читать, но смысл прочитанного до меня не доходил. Наконец я отложила книжку и прикрыла глаза…
Они тогда так стояли, напротив друг друга… нет, точнее, мама стояла, а тот мужчина сидел на кровати с панцирной сеткой и большими никелированными шарами, бесстыдно сидел, раздетый, в одних брюках, стянутых кожаным ремешком. Его обнаженная широкая грудь вздымалась и опускалась, как у молодого жеребца. А мама — ее лица мне не было видно, — она стояла спиной к окну, через которое я за ними подглядывала. Вдруг она подошла и села рядом с ним. Он протянул руку и погладил ее по волосам, а мама вся подалась к нему и сделала движение головой, будто ластится, ну совсем как кошка. Все это так не вязалось с ее обычным поведением. «Мне все это привиделось, я сплю наяву…» Она была моей матерью — и одновременно не была ею. На ней была та же самая одежда: серая юбка, спортивного кроя блузка в мелкую клеточку, а сверху — безрукавка из бараньего меха, — но сама она была иной. Другими были ее волосы, руки и этот — незнакомый мне — жест. Такой ласковый, женственный. Неожиданно я услышала ее голос, она смеялась… прежде она никогда не смеялась. В этом смехе было что-то такое, чужое, что ли, и одновременно в нем сквозило какое-то бесстыдство. В этот момент мне даже показалось, что мама издевается над нами, надо мной и дедушкой, что она предает нас этим смехом, более того, это перечеркивает мое существование. Она не хочет меня и никогда не хотела…
Читать дальше