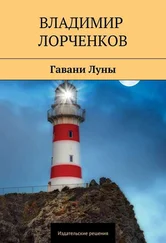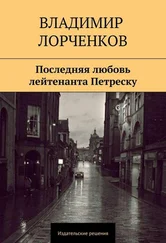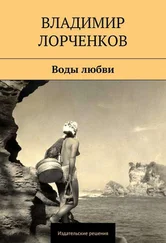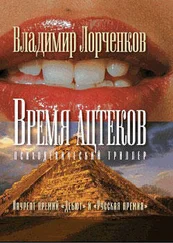– Завтра обязательно пойдем к подземным ходам, Владимир Владимирович.
– Каким еще? – не понял я.
– Под рекой, – назидательно подняла она ногу и отставила большой палец на ней, – Бык. Нашей городской речушкой.
– Зачем? В такую погоду я не ходок, Анна-Мария.
– Надо же расширять ваш кругозор, друг мой, – веселилась она, – не все же вам представлять мир по дурацким книжкам. Взгляните на историю сами! А сейчас давайте есть и веселиться.
– Не уверен, – буркнул я, отправляясь за курицей и салатами, – что второе у нас с тобой получится.
Но она и тут оказалась права. Получилось весело. Анна-Мария и вправду стала мила, еда была вкусной, а пиво в меру холодным. К тому же у нее в вязаной хипповской сумочке – которую она сделала сама, громко похвасталась Анна-Мария, – оказалось две сигареты с марихуаной. Первую мы и выкурили за ужином в ванной, а вторую отложили на ночь. Анна-Мария устроила для куриных крылышек гонки в салатных листьях и очень развеселила меня, прочитав какое-то стихотворение о родине очередного румынского мудака-мессии из местного Союза писателей.
– Это мой отец, – сказала она, разгоняя мыльные острова у груди, – возможно, мудак, но не мессия. Все равно ты не понял, о чем здесь речь! Да и какая разница?! Продолжаем веселиться.
Когда мы наелись – салаты зачерпывали прямо руками, – то еще раз искупались. Вообще и она, и я очень любили валяться в ванне. Водные млекопитающие. Животные моря. Киты, по ошибке попавшие на сушу. Потом я спустил воду, вынул Анну-Марию – она, придуриваясь, перегнулась, как неживая, – и положил на кровать. Вытер насухо, накрыл одеялом, а потом залез к ней и поцеловал прямо в рот, что делал очень, очень редко. А потом мы, первый раз за все знакомство, занимались любовью. Нежно, тихо, ласково и со взаимным уважением. Я едва шевелился, а она тихо подавала мне навстречу задом, и мне казалось, что мы так продержимся до утра, а потом и это стало неважно, настолько, что мы стали кончать, оба и обильно. И в этот момент обнялись так крепко, что у меня в спине что-то хрустнуло. Я приподнялся – она вместе со мной – и снова упал. Расцепляться не хотелось, поэтому мы просто перевернулись, и она стала гладить кончиком носа мое лицо. Как будто буквы выводила. Я в ухо сказал ей:
– Что ты там пишешь…
Она молча продолжала выводить на мне какие-то знаки.
– Анна-Мария, – спросил я, – ты бы пошла за меня замуж?
Она только фыркнула.
Анна-Мария, что за приговор ты чертила на моем лице своим носом, а потом волосами? Что ты написала на мне? Какое заклинание? Что бы то ни было, оно настолько сильно, что я чувствую с собой рядом тебя, как живую. Мне становится так тепло, будто ко мне прикоснулась ты. Анна-Мария, ты рядом? Я открываю глаза. Нет, конечно, никого рядом нет. Даже птиц.
Просто тучи расступились, чтобы дать солнцу возможность еще раз взглянуть на город. Оно и светит что есть сил. Времени мало. Со стороны Азии идет туча.
Но все равно в Стамбуле холодно. Выше пятнадцати градусов по Цельсию, переменная облачность и дожди. Теплые дожди, от которых становится холодно, когда дует ветер. А он дует. Погода переменчивая.
На двадцатимиллионный город нахлынули циклон и воспоминания.
Я прекрасно понимаю, как жалко выгляжу в его глазах, с его историей, его жизнью и его памятью. Интересно, думаю я, откидывая в сторону рубашку, которой прикрывался от ветра, и грею лицо солнцем, притянув его ладонями к себе. Интересно, думаю я, приподнявшись с лежака, интересно, замечает ли он меня, этот город? Или я для него не больше, чем насекомое для лесного зверя? Незначительная форма бытия, которую он даже и не осознает. Города ничего не осознают. Они мертвы. Что не мешает нам, людям, бродить по их белеющим костям. Мы, как муравьи, подъедаем остатки прошлого.
Солнце снова заходит за тучу, нашедшую на город из Азии, и я понимаю, что попытка укрыться в Стамбуле не удалась. Анна-Мария все равно нашла меня здесь.
Даже чайкой.
– Иногда мне кажется, что она видит что-то, чего не вижу я, понимаешь? Говорят, у детей так. Они разговаривают с кем-то, видят что-то. На самом деле все это ангелы. А потом дети вырастают и теряют это.
Я развел руки и потом положил подбородок на ладони.
– Все мы, – Корчинский затянулся и задумчиво пустил дым носом, – вырастая, только теряем. Жизнь – это бесконечное поражение. Кампания восемьсот двенадцатого года.
– Да пойми ты, – я взял у него из руки сигарету и тоже сделал затяжку, – отвлекись… Если ты отвлечешься, то поймешь важную вещь. Она не такая. Не от мира сего. Подарок.
Читать дальше