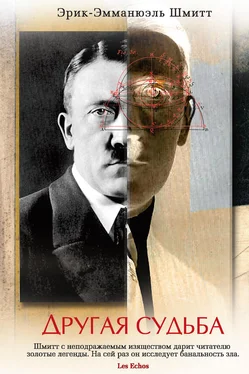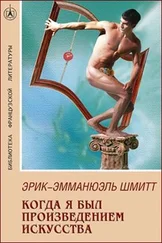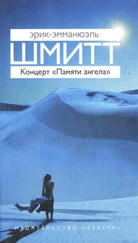Зато сегодня вечером перед зеркалом в ванной он испытал неведомое доселе удовлетворение, покрывая лицо и руки гримом; чем чернее становилась его кожа, тем яснее были чувства; прячась от всех глаз, он видел наконец себя: да, он ревновал, до смерти ревновал, потому что до смерти любил Одиннадцать-Тридцать. Его решение было принято: он скажет ей, как он ее любит и как страдает из-за нее. Пусть делает с этим что хочет.
Но, увидев Одиннадцать-Тридцать в холле, нежную и величавую в платье эпохи Возрождения, он оробел. А знает ли он ее? Не осталась ли она ему чужой? По какому праву он будет докучать ей своей любовью и своей ревностью? Разве ей это интересно?
По дороге, в машине, он попытался успокоиться и завязать с ней непринужденную беседу.
– Какое милое открытие – видеть тебя такой! В конце концов, ты могла бы быть блондинкой.
Его самого раздражал светский тон, который он невольно взял.
– Может быть, нам стоит съездить через месяц к морю?
Невыносимо! Он обращался к женщине своей жизни тоном денди на вернисаже. Он играл, был вежлив, безупречен, он вошел в роль.
– Я хотел бы проводить с тобой больше времени.
Как это по́шло! Говорил он пошло или пошло чувствовал? Как получилось, что они почти перестали разговаривать и теперь любой обмен репликами звучал как колокол в гулкой пустоте?
В особняке де Бомона их встретил одобрительный шепоток, согревший ему сердце. Он понял, что все сочли его выбор дерзким – надеть при жене маску Отелло. Да, вы верно поняли, я ревную, я показываю это всему свету, я отчаянно ревную, потому что отчаянно влюблен.
– Идемте, – сказал Этьен де Бомон, – Ман Рей непременно должен вас сфотографировать.
Они попозировали американскому фотографу, Адольф гневно вращал глазами, а Одиннадцать-Тридцать на диво убедительно изображала несправедливо заподозренную голубку.
Гостиные заполнял джаз. Полтора десятка Клеопатр и два десятка Гамлетов танцевали чарльстон. Граф де Бомон из вежливости обезобразил себя до крайней степени, одевшись Ричардом III. Камзолы и трико открывали занятную анатомию, округлые ляжки, мощные ягодицы; уже ходил слух, что около полуночи будут избраны самые красивые ноги.
Группа молодых людей окружила Одиннадцать-Тридцать и смеялась ее остротам. Адольф отошел; вяло поучаствовав в нескольких беседах, он облокотился о подоконник и, под защитой маски, погрузился в свои мысли. Почему я дал ей такую власть надо мной? Она заняла слишком много места в моей жизни. Посмотри на нее: она резвится и веселится, она здорова, горяча, эротична. Я нужен ей меньше, чем она мне. Так продолжаться не может. Я должен быть хозяином моей жизни. Никому не давать подмять себя. Я…
– Отелло нынче мрачен.
Какая-то женщина прервала его размышления. Высокая, гибкая, словно нарисованная одним штрихом; ее светлые волнистые волосы отливали тремя разными оттенками – песочным, золотистым и рыжим, все три оттенка были заплетены в толстые косы, струившиеся до самой поясницы.
– Офелия, я полагаю?
– Верно подмечено. Офелия, утонувшая в шерри, – сказала она, подняв бокал на уровень глаз, в форме полумесяцев.
В этих глазах Адольф рассмотрел многообразие оттенков карего, от бежевого до почти черного – орех, сиенская глина, шафран, кирпич, красное дерево… и легкий блик зеленого.
– Какая палитра, – пробормотал он.
– О чем вы?
– О ваших красках. Ваши родители, произведя вас на свет, выказали себя отменными колористами.
Она вздохнула, чуть раздраженно, чуть смущенно.
– У вас как будто немецкий акцент, или мне кажется?
– Меня зовут Адольф Г., я из Вены.
– Адольф Г. А я из Берлина! – воскликнула она.
Они сердечно улыбнулись друг другу. Австрия и Германия – здесь, в парижском изгнании, они были соотечественниками.
– Меня зовут Сара Рубинштейн. Я – нос.
Она показала на две очаровательные ноздри, которые раздулись, когда о них заговорили.
– Вы создаете картины из запахов?
– Пытаюсь. Я заканчиваю обучение в Париже, в доме Герлен. Потом вернусь в Германию и буду делать духи.
– Что происходит в Германии? – спросил Адольф.
Сара рассказала ему о смутной поре, которую переживала ее страна, о трудностях молодой Веймарской республики. Детище поражения, Версальского договора 1918-го, Республика выглядела унизительным наказанием в глазах слишком многих немцев.
– Это открывает дорогу экстремистам. Как правым, так и левым. Коммунисты набирают голоса, и правые националисты тоже – тем легче, что не стесняются играть на антисемитских струнах.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу