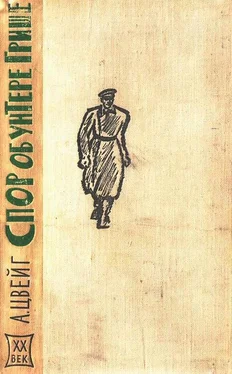Под конец туда набилось человек десять, да еще с багажом; они теснились на лавках, сидели как попало — на корточках на полу, тело к телу, как едут рядовые и унтер-офицеры, будь то фронтовики, гарнизонные солдаты или тыловики, — словом, все те, которые недостойны кататься, подобно чистой публике, в удобных скорых поездах.
А затем ночью языки развязались — ведь тут были все свои, пожилые люди, ландштурмисты, солдаты ландсвера, люди, знающие, «что поставлено на карту», и то и дело норовящие заглянуть в карты партнера.
Единственный молокосос, который мог бы проболтаться начальству, был «штабной жеребчик» со своей курьерской сумкой (на эту мысль их навело заспанное детское лицо Бертина). Он явно спал крепким сном, забившись в угол и громко похрапывая; и разговор становился все более и более откровенным: все старые, бывалые солдаты…
Под маской равнодушия или насмешки они изливали свое отчаяние и безнадежную горечь по поводу вопиюще несправедливого неравенства между офицерской кастой и рядовыми солдатами: в еде, в одежде, расквартировании, в отпусках, в жалованье, в праве на жалобу.
Они говорили о том, что пропасть эту искусственно и без всякого стеснения расширяют; о том, что офицеры, сколько-нибудь внимательные к солдатам, подвергаются опале; о том, что лучшие офицеры в каждой роте чувствует себя все более и более одинокими, что их оттирают в сторону, если только не предстоит идти в бой. Говорили о том, что всеми мерами стараются унизить достоинство рядового солдата, дать ему почувствовать, что он существует только по милости начальства.
Приводили многочисленные примеры вопиющего бессердечия того, что принято называть врачебной помощью, медициной. Толковали о том вздоре, который, под видом патриотического воспитания, офицеры-инструктора, или как их там называют, вколачивают в них, взрослых немцев в возрасте между двадцатью пятью и сорока пятью годами. А ведь они давным-давно лучше разбираются в жизни, политике, хозяйстве, классах, чем какой-нибудь безмозглый заносчивый полковник или лейтенант.
И в страшно накуренном вагоне, который, качаясь, мчался в ночь, в тускло освещенном купе вдруг прозвучало имя посаженного в тюрьму депутата, некоего Карла Либкнехта. Об этом было сказано между прочим, вскользь, ибо до конца нельзя быть уверенным даже в соседе, с которым ты семь-восемь месяцев делил нужду и опасности.
В приглушенном шепоте слышался тон искреннего участия:
— Вот посмотрите, Либкнехта нам не видать больше… Он слишком много души отдавал нашему брату.
— Если только мы сами его не вызволим…
— Мы? Плохо же ты знаешь немца! Нам это не удастся. Мы не чета русским. С нами можно делать что угодно…
Лишь когда поезд, пыхтя, остановился в Белостоке, спутники разбудили Бертина и, потешаясь над ним, помогли ему выбраться из вагона. Он сразу вступил в иной мир. Позднее, когда он вспоминал об этом пребывании в Белостоке — каких-нибудь тридцать шесть или сорок часов, — ему казалось, что его подхватила какая-то пенистая теплая волна. Внезапно к нему вернулся дар речи, способность смеяться, спорить с себе подобными.
В отделе печати, помещавшемся в желтом кирпичном доме бездушно-казарменной архитектуры в стиле восьмидесятых годов, он встретил солдат, таких же, как он сам, людей своего поколения. Среди этих журналистов, писателей, художников, учителей, адвокатов — ни один из них не был в чине выше унтер-офицерского — с Бертина соскочила всякая робость; его пламенная от природы душа свободно изливалась в ночной беседе; беспрерывно куря, он говорил о пекле под Верденом и о пути, по которому Германия мчится в неизвестность: В заключение он рассказывал и другие истории — утешительные, как дело Бьюшева, свидетельствовавшее о том, что в армии существует и справедливость, что в этом деле генерал вступился за невиновного, какого-то русского, и что, значит, несмотря на все военное безумие, моральные силы все еще берут верх. «У вас», — ответили слушатели и подмигнули.
Лишь на другой день ему снова пришлось вспомнить, что он — раб, скованный по рукам и ногам.
В полдень, предварительно позвонив из отдела печати по телефону, рядовой Бертин очутился в вестибюле многоэтажного дома военно-судебного ведомства.
Ему, собственно, поручено лично переговорить с военным судьей, доктором Вильгельми.
Но не тут-то было.
Папку с бумагами забрали в регистратуру, письмо взял очкастый фельдфебель; вот и все, дело будет рассмотрено в порядке очередности, господин военный судья на обеде у генерала Шиффенцана.
Читать дальше