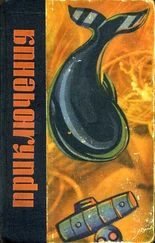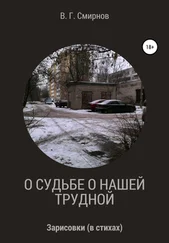Он ударом ноги вышибает дверь, и темное небо, чуть подсвеченное дальними огнями стадиона, врывается в сарай звездным холодом. Хороший боец был этот Мишка. Пулемет его замолк, а сам он продолжает поливать врага булькающими очередями слов. Отчаянный. Странным образом все, о чем он сказал, смыкается с тем, что говорил в шалмане Инквизитор, с теми мыслями, что родились в голове Димки, когда он бродил по Площади, готовясь к докладу. Выходит, их объединил не просто случай, не одна лишь крыша «Полбанки».
Воздух остужает его. Мишка сникает, вздыхает, издав свистящий паровозный звук, и улыбается:
— У нас в отряде, — бурчит он, — если случалось затишье, дня на три и больше, то командиры сами бой искали. Шли на врага. Иначе начинал баловаться народ. Бражничать по селам и прочее. Дымился от безделья, как торф на солнце. Много еще удали у нас. И боевой, и мастеровой, и торговой, всякой. Прижать ее — сопьются. Засамогонятся. Потом будем охать: ах, что за народ такой непутевый. Пока есть еще удаль. Война крепко нас пробудила к делам. Только дай чего отковать, отлить. Не держи!
Поздно вечером приходят Петрович и Яшка-герой. Петровича они сразу узнают по неравномерному хрусту ледышек и глухому постукиванию палки. Правда, после известия об ордене походка Культыгана изменилась, выправилась как-то, протез перестал нищенски приволакиваться и теперь бежит, топает победно поперед здоровой ноги.
Яшка ставит на стол что-то громоздкое, тяжелое, обернутое газетами, вытирает вороной чуб. Вид у него, как всегда, взъерошенный и от вечной спешки мокрый — будто без конца он форсирует свой Днепр. Выпуклые черносливы горят. Яшка уже принял свою фронтовую дозу и готов взорваться в споре — но Биллиардиста с ними нет. За распахнутой шинелью Яшки поблескивает маленькая золотая звездочка. Петрович осторожно оглядывается: все ли на месте в сарае? Ничего не конфисковано, не сгорело, не пропало? Живет Петрович неподалеку, у него комната в деревянной двухэтажке на Масловке, без удобств, но светлая и сухая — и всего лишь на одну его небольшую двухдетную семью, без стариков, без ситцевых разгородок: прелесть. Но кормит-то Петровича сарайчик.
— Ну что? — спрашивает он у Валятеля. Мишка щурит глаза в усмешке, выбухивает:
— Живем как картошка: если зимой не съедят, весной посадят.
— Что, был?
— Был.
— Обошлось?
— Обошлось. Но грозится. Налоги повышают.
— Слышал, слышал, — подвывает Петрович. — Придется закрывать хозяйство. На мебельную фабрику пойду. Боюсь только: не выдержит душа одну и ту же фанерку прибивать. Поток!
Яшка— герой достает пачку «Беломора»; видя тоскующий взгляд Валятеля, сует ему в рот папироску, чиркает зажигалкой-патроном.
— Кури, Валятель. Ростовские, лучшие в мире! Потом бинт сменишь. Не горюй, мы с тобой в славный город Кенигсберг поедем. Написал мне верный человек: там на сдаче вторсырья можно крепкую деньгу схватить. Возьму отпуск — и махнем. Там, понимаешь, свинцовых телеграфных проводов полно и пробки настоящей на теннисных кортах. Золотое дно!
У Яшки всегда полно всяческих замыслов. Если Валятель возразит ему, он тут же схватится в словесной драке и начнет отстаивать свой план с пеной у рта. Но Валятель уже наговорился с фининспектором.
Димка переводит взгляд с Яшки на Петровича.
— А где Гвоздь?
— Гвоздь поехал к твоему подполковнику.
— Какому подполковнику?
— Ну, с ниверситета твоего, — поясняет Петрович. — Узнал, где живет, поехал. Димка охает:
— Да как же он… Зачем? О чем он будет с ним говорить?
— Надо, значит. Гвоздь знает, что и как.
Димка представляет: вот Гвоздь поднимается на лифте к Головану, звонит. Путано объясняет. Да у Голована же сотни студентов, он, может, и думать про Димку, студента филфака, забыл. И вот подполковник должен выслушивать о каких-то урках с Инвалидного рынка, о рулетке, об угрозах Чекаря. Стыдно… Что он, Димка, маленький ребенок, нуждающийся в опеке взрослых людей?
— Да ты, Студент, чего краской наливаешься? — напрямик рубит Яшка-герой. — Они сразу общий язык найдут. Этот же твой подполковник — он, я так понял, боевой, да? Фронтовик?
— Фронтовик.
— Ну вот. С полуслова они все поймут. Гвоздь даже ордена свои нацепил. Да что ордена… Он свою медаль красненькую прикнопил.
— Красненькую?
— Ну, довоенную еще. С финской. В войну «За отвагу» на серо-голубой муаровой ленте вешали, на большой, а до войны — на маленькой, красненькой. До войны «За отвагу» — это ого!
Читать дальше