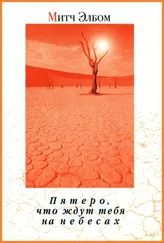— И все же страшнее ночных ознобов, страшнее крыс и зловония экскрементов, пропитавшего камеру, была жажда. Она душила мою глотку, эта лиана с острыми шипами, она высушила слюнные железы, она рисовала на стене странные фигуры и приводила их в движение, она сделала мой язык тяжелым, словно язык церковного колокола, превратила его в неуклюжую огромную чушку, и эта чушка давила на зубы, не помещаясь во рту.
Журналист поднялся — темное пятно пота натекло под ним на полу за это время — и до конца рассказа стоял, скрестив руки на груди.
— Как-то ночью, — продолжал Врач, — пошел сильный дождь. Я слушал — не ушами, нет, а выжженным жаждой языком! — слушал и слушал частый стук капель по навесу, по стене. Дождь шел долго, бесконечно долго, несколько часов подряд, и вот наконец, когда рассвело, в углу под сводчатым потолком робко показалась тоненькая струйка воды и медленно поползла по стене камеры. Я подполз к стене, подставил рот и поймал на язык несколько капель. Вода, проникшая сквозь слой извести, была горько-соленой и не только не утолила жажды, но распалила ее еще больше.
(Прием больных, преподавание в лицее, вечерние беседы за семейным столом, встречи с Анхелиной — со всем этим приходится проститься, когда власть в стране захватывает верхушка армии. Я перехожу на нелегальное положение. Об этом я уже говорил моим нынешним товарищам по камере. Правда, я не сказал им, как отразилась, подпольная жизнь на моей нервной системе. Вначале все идет гладко: я спокойно, как и раньше, выполняю задания, по ночам выезжаю в связной машине на встречи с товарищами, пишу листовки и, если нужно, сам же печатаю их на гектографе, анализирую экономическую и политическую обстановку в стране, посылаю в иностранную прессу материалы о коррупции и произволе диктатуры Но проходят месяцы, и в мой мозг — через вены висков, через слуховые каналы, через кончики пальцев — проникает психоз преследования. Тяжело жить, да еще неопределенное время, когда твое подсознание находится в состоянии постоянной тревоги, нервы вздыблены и, вибрируют, словно антенны, все твое существо ждет, не следуют ли за тобой агенты, чтобы даже не схватить, а просто убить тебя тут же на месте. Мой слух обострен до предела, я улавливаю самые слабые и далекие звуки: лязганье чьего-то ключа в чьей-то замочной скважине, шаги пешеходов на перекрестке, рокот мотора и скрип тормозов на улице, выкрики продавца лотерейных билетов на дальнем углу. Перед рассветом я просыпаюсь от легких ударов ветра в оконную раму, от лая собаки и пения петуха, от шороха снующего в углу таракана. Мысль о снотворных и успокаивающих я отвергаю, пытаюсь обуздать нервы силой воли и логики. Но в конце концов убеждения врача берут верх над предрассудком, и я назначаю себе самый простой режим. Правда, от психоза я не избавляюсь полностью, но все же усмиряю его. Иногда я спрашиваю себя, не вызвано ли мое состояние страхом, тайной боязнью сдать под пытками, если меня схватят? Но мое второе «я» гневно отвергает это оскорбительное предположение. Нет, дело не в страхе перед арестом, дело во временной психической неустойчивости, порождаемой именно затяжкой в аресте. Минутами я страстно хочу, чтобы полиция нагрянула, чтобы я избавился наконец от затянувшегося ожидания удара, который может быть нанесен каждую минуту, а его нет и нет. Кстати, только этим напряженным состоянием духа я и могу объяснить странный эпизод в моей жизни — женщину в туфлях коринфского цвета.)
— Ночные бои с крысами, ознобы, нескончаемая резь в запястьях, тошнота от зловония, которое распространяло мое тело, покрывшееся коркой грязи и экскрементов, безумный голод и еще более жажда доводят меня до прострации, до полуобморочного состояния, прерываемого галлюцинациями… Процессия крыс пересекает наискось коридор, крысы несут в зубах простыню, но вот они отходят подальше, и простыня оказывается вражеским флагом. Генеральные штабы двух маленьких государств — Гватемалы и Никарагуа, ведущих между собой войну, — размещены в наручниках, терзающих мои запястья. По моим ребрам ползут вверх и вниз соединения обеих армий, завязываю| бои на уровне моих прижатых к бокам локтей, ищут укрытия в оврагах подмышек, а в это время никарагуанские и гватемальские генералы вонзают огромные стальные шпаги в мои воспаленные запястья. Людовик Четырнадцатый и мадам де Монтеспан чванливо, даже не кивнув надзирателю, входят в коридор и останавливаются напротив моей камеры. Их беседа переходит в бурную сцену ревности, дама обвиняет монарха в изменах, а тот, презрительно морщась, просит оставить его в покое и кончиками пальцев разворачивает батистовый платок. Тем временем мадам де Монтеспан, не спуская с рук собачонки по кличке Злоба, принимается плакать, шмыгая носом, как простая крестьянка. Жалобный голос красавицы доходит до моих ушей: «Ваше величество, за что вы меня так терзаете?»
Читать дальше