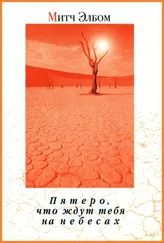— Пять часов меня держали на «ринге». Я твердил одно: отвергаю военные перевороты как метод политической борьбы и клянусь всеми святыми, что не знаю лично никаких офицеров, кроме одного-двух, у которых брал интервью по долгу службы. Неож иданно Бакалавр велел мне спуститься с «ринга» и одеться, так как, сказал он, предстоит поехать в одно место, где я либо| развяжу язык, либо распрощаюсь с жизнью. На этот счет, подчеркнул он, у него нет ни малейшего сомнения. Белье и костюм я натянул без особого труда, но с обувью пришлось повозиться: искромсанные, отекшие ступни не влезали в туфли. Затем мне приказали идти вперед. Меня сопровождала группа агентов во главе с Бакалавром. Прежде чем пуститься в дорогу, мен я подвергли дурацкой операции, словно заимствованной из фильма о гангстерах или сказки: нацепили мне на нос массивные очки с черными стеклами и, чтобы я не уловил боковым зрением очертания предметов или хотя бы тени от них, плотно законопатили ватой просветы между лицом и очками. Два агента взяли меня под руки и, как слепого, повели по коридорам Сегурналя. Я ощутил под ногами ступеньки лестницы, затем меня подняли на весу в машину — судя по высокой посадке и характерному звуку клаксона, это был джип. Над ухом раз дался хриплый голос Бакалавра: «Захватите кирки и лопаты, чтобы для этого дерьма выкопать могилу». Я похолодел, хотя почти одновременно в мозгу зародилось сомнение, вылившееся в такой успокоительный силлогизм: «Мне завязывают глаза — значит, не хотят, чтобы я запомнил дорогу; они боятся, что я запомню дорогу — значит, везут меня не на смерть; следовательно, Бакалавр врет, когда пугает могилой». Джип катил до молчаливым ночным улицам, потом закачался по проселку, затем какое-то время подпрыгивал по камням или глыбам ссохшейся земли и в конце концов остановился. Меня под руки спустили, провели несколько шагов. Я, спотыкаясь, преодолел два уступа — должно быть, ступеньки из утрамбованной земли, — и за нами захлопнулась кака я-то дверь. С меня сорвали одежду, стащили туфли, защелкнули на скрещенных сзади руках наручники и ударом наотмашь сбили с лица очки вместе с ватой. Едва я открыл глаза, как кто-то сильно ударил меня ногой в живот, и я повалился на диван.
(Случай с глупой девственницей — неопровержимое свидетельство того, что я совершенно не гожусь на роль волокиты, развратника или соблазнителя. Началось с телефонных звонков. Ежедневно по нескольку раз меня вызывает гортанный голос чувственной женщины, и я пускаюсь на всякие уловки, чтобы избежать разговора с неизвестной. «Скажи, что меня нет на работе, что у меня болит зуб», — прошу я сослуживцев. Уж кто-кто, а я-то знаком с теми маньячками, перезрелыми девами или неудовлетворенными женами, которые звонят по адвокатским бюро, служебным конторам и редакциям газет в поисках телефонного собеседника, с кем можно завязать пикантный, а то и просто скабрезный разговор, прячась за и нкогнито, словно за баррикадой. Однако гортанный голос так настойчив и полон мольбы, что однажды я не выдерживаю и беру трубку: «Послушайте, детка, если вы действительно хотите со мной познакомиться, то не лучше ли нам встретиться где-нибудь? Мне претит эта похоронная труба, именуемая телефоном». — « Хорошо, — послушно соглашается неизвестная. — Я видела ваш портрет в газете, читала ваши хроники и безумно хочу вас видеть, где угодно». Я назначаю место свидания, презрев опасность встретить деву не первой свежести или проститутку, обслуживающую на дому. Но — хвала всевышнему! — моя поклонница являет собой обратную сторону медали: этакий полурасцветший бутончик, выпускница колледжа, романтичная, как Франческа, та, что была возлюбленной Паоло. Оказывается, она влюблена в мой профиль неаполитанского бандита и — о, боже! — в мой журналистский стиль. Совершенно ослепленный нежностью этого ангела, пахнущего молоком и жасмином, я веду ее в кино — днем, так как вечером родители не выпускают ее из дому, — и в темноте глажу ее руки, трепетные и влажные, словно мордочка кролика. После кино мы сидим в кафе, я тяну четвертую рюмку сухого мартини, она грызет мороженое, белоснежное, как ее шея, и время от времени поглядывает на меня с таким восхищением, что я начинаю нервничать. Как-то майским воскресеньем я приглашаю ее к себе на квартиру. Она идет рядом со мной по улице, навстречу своему падению, и я чувствую, что вот так же отрешенно и радостно она пойдет и в ад, если мне это взбредет в голову. Я медленно ее раздеваю — тело отливает матовой белизной фарфора — и, уже обнаженную, целую в губы. Она, чуть не теряя сознание, никнет у меня в руках, и тогда я произношу самые испанские из всех испанских слов: «Ты непорочна?» Она слегка краснеет и, борясь со страхом, который отражается в ее глазах робкой лани, бормочет: «Конечно. Но я так люблю тебя, что готова…» Я хмурю брови, словно школьный учитель, отвожу глаза в угол на белую глыбу холодильника и кричу голосом разгневанного дядюшки: «Ну, вот что! Немедленно одевайся и марш домой!». Иной раз, просыпаясь целомудренным квакером, я хвалю себя за стойкость, проявленную в то воскресенье. Но когда я просыпаюсь не квакером, а это бывает значительно чаще, почти каждое утро, я называю себя идиотом. Законченным идиотом, который не заслуживает никакого снисхождения.)
Читать дальше