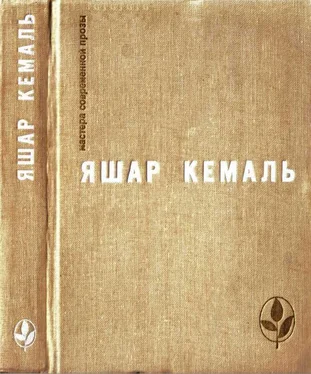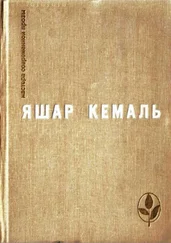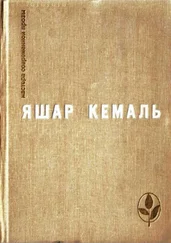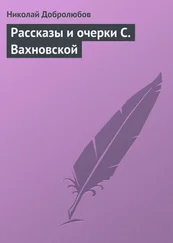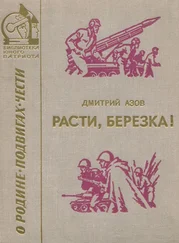Около гробницы Ахмеди Хани разложили большущий костер. Ходят по пылающим углям дервиши и суфии, под аккомпанемент кавалов поют свои песни мюриды. И все склоны Горы, сколь хватает взгляд, запружены людьми, смотрящими на огнеходцев. Все в алых отблесках тела дервишей и суфиев, словно искорки — капли пота.
— Трус я, жалкий трус, — причитает во дворце Махмуд-хан, порывается с мечом в руке броситься на толпу. С трудом удерживают его Исмаил-ага и другие придворные. — Как мне теперь жить? — стонет паша. — Опозорил я свое славное имя османское. На весь свет осрамился. Сохрани Аллах, дойдет до падишахского двора. Для чего мне тогда и жить?
Но какое войско может устоять против такой тьмы народа? Немыслимо даже и думать о сопротивлении.
«Вот беда на мою голову, — сокрушается паша. — И все из-за этого распроклятого коня. Прогневил я, видно, Аллаха!»
До самого вечера веселился народ у гробницы Ахмеди Хани. Рокочут барабаны. Полунагие, с разлетающимися волосами пляшут дервиши на углях, быстрее молнии летают их руки и ноги. А юноши и девушки, став парами, пляшут гёвенд — подобного танца мир еще не видывал. До самого дворца протянулась двойная цепь танцующих. Семь барабанщиков-давулджи и семь зурначей играли для них. До чего же приятно было смотреть на девушек в расшитых шелковых передничках, с яркими платками. Со стороны казалось, будто это море колышется. Волны то выше встают, бурлят, пенятся, то спадают.
Отвели Гюльбахар в дом кузнеца. Вымыли, нарядили в прекрасное — будто и не люди шили, а джинны — старинное платье из лахорской ткани. Затем посадили на отцовского коня и повезли к Караванному Шейху. Туда же приехал и Ахмед.
Спешились Ахмед и Гюльбахар, помолились и поцеловали Шейха в плечо. И тот их поцеловал и благословил. За всем этим наблюдал Махмуд-хан из своего дворца. А о том, чего не видел он сам, донесли соглядатаи.
— Махмуд-хан — османец, кяфир [5] Кяфир — неверный, нечестивец, гяур, гявур.
,— сказал Караванный Шейх. — В таких, как он, не осталось ничего человеческого. Не простит он нам всего этого. На самой Горе постарается выместить свой гнев. Никому, даже детям, не будет от него пощады. Но мы должны держаться наших древних обычаев. Отправляйся-ка ты, Ахмед, вместе с Гюльбахар к хошабскому бею. Он мой мюрид верный, в обиду вас не даст. А для надежности пошлю я с вами управителя моего — Ибрагима. Хошабский бей хорошо его знает.
Есть такой старый обычай. Если молодой человек умыкнет девушку и попросит у кого-нибудь убежища, то эту девушку уже не выдадут ее отцу — кто бы он ни был. Любой ценой выхлопочут согласие отца, выплатят калым, свадьбу сыграют. Из-за таких похищений частенько разгорались кровавые распри, но обычай продолжал существовать.
Делать нечего, отправились Ахмед с Гюльбахар в хошабскую крепость. Тамошний бей, хоть и считался вассалом османского падишаха, независимости своей не потерял. Будь даже Гюльбахар дочерью самого султана, все равно принял бы ее. Таков закон родовой чести. Титула своего лишится, голову сложит бей, а уж того, кто убежища попросил, не выдаст. Иначе стыд и срам, в глаза никому посмотреть не сможет.
К югу от Вана, у большой караванной дороги, стоял крутой, обрывистый утес. Там-то, обнесенная тремя рядами стен, и высилась хошабская крепость. Внизу серебрилась река Хошаб. Никто не знал, когда возвели эту крепость, знали только, что очень давно. Из века в век в ней производили какие-то перестройки, но так искусно, что цельность ее не нарушилась. Изумительной красоты была эта крепость, другой такой, пожалуй, и не сыскать.
Ахмед и Гюльбахар остановились у подножия утеса. Коней своих оставили внизу, в конюшне аскеров, а сами пошли к воротам. Часовой знал Ибрагима и беспрепятственно пропустил их в крепость.
— Этот Махмуд-хан не признает ни обычаев, ни традиций, — сказал хошабский бей, выслушав Ибрагима. — Он ведь паша, османец. Как только узнает, что я приютил беглецов, сразу против меня выступит. Со всем своим войском. Но что делать? Придется по всем правилам посватать его дочь. Ничего не пожалею, лишь бы согласился он отдать ее за Ахмеда. Слово Шейха для меня закон. Голову сложу, а его воли не нарушу.
Хошабский бей похлопал в ладоши и велел подбежавшим слугам:
— Накормите гостей и отведите их отдохнуть. Издалека приехали, притомились, верно, с дороги.
Как только Ахмед и Гюльбахар вышли, помрачнел, потемнел лицом хошабский бей. Глаза затуманились, даже волосы светлые как будто потускнели.
Читать дальше