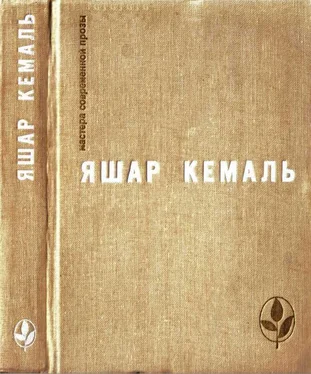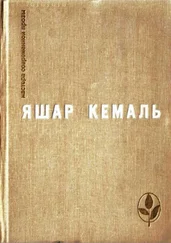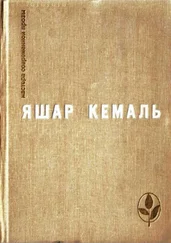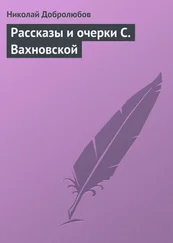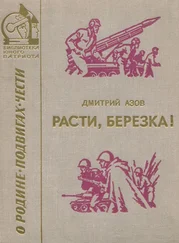— Какие часы, брат! Какие часы! Пусть радуются на том свете отец и мать дарендейца. Настоящие саркисовские. Ни на минуту не отстают. Работают, как мотор в пятьдесят лошадиных сил. Единственные часы на всю деревню. Доведется повстречать дарендейца, непременно дам ему десятку. Человек в нужде был, потому и продал. Грех с моей стороны не добавить ему.
Поденщики тоже были весьма довольны часами. Приближается, допустим, полдень, они спрашивают:
— Долго еще до двенадцати, Хаджи?
Хаджи покрутит-повертит часы, как черепашку. Поднесет к уху, погладит и, вознеся сначала, как привык, хвалу Аллаху и дарендейцу, отвечает, бросив косой взгляд на солнце: «Пять минут осталось». В другой раз скажет «десять» или «пятнадцать». А то и «двадцать». Или, не дожидаясь положенного срока, в свисток просвистит: пора, мол, на перекур.
Однажды случилось так, что Хаджи по рассеянности поднял поденщиков раньше времени, ни много ни мало на три четверти часа урезал обеденный перерыв. Не рассчитал, видать. Из-за этого целый скандал вышел. Поденщики на дыбы, не желают начинать работу, и все тут. Хаджи вопит:
— Я ваших прав не ущемляю! Что ваше — то ваше. Вот часы! Не какие-нибудь вшивые-паршивые — настоящие саркисовские! — А сам размахивает своим будильником, туда-сюда, туда-сюда. — Как мотор работают. Без пяти двенадцать отпустил вас на перерыв, а сейчас пять минут второго. Десять лишних минут отсидели. Пора и честь знать!
Кричит Хаджи, часами размахивает. И вдруг к уху поднес. О Аллах, часы стучат! Беднягу едва удар не хватил. Не своим голосом завопил:
— Подойдите, подойдите! Послушайте, как стучат! Совсем как трактор.
Сколько было в поле поденщиков, каждому дал послушать.
— Ну, что теперь скажете?
— Испорченные у тебя часы. Мы тоже не дураки, знаем, сколько времени отдыхали.
— Да-да, испорченные!
Что стало тут с Хаджи! Орал и на людей кидался как бесноватый. Никто никогда еще не видал его в таком гневе. Удивились крестьяне, решили, спятил Хаджи. А тот не унимается — трясет часами над головой.
— Кто говорит, что они испорченные? Не смыслите ни бельмеса в настоящих саркисовских часах! Как мотор работают. На ваших глазах, олухи, ишака отдал за них. Ради вас купил, чтобы вам лучше было!
Поденщики притихли.
— Не серчай, Хаджи.
С того дня Хаджи не давал повода усомниться в исправности своих часов. Ежели на перерыв положен час, так он полтора часа отпускал. Крестьяне блаженствовали:
— Вот это часы! Вторых таких во всей Чукурове нет! Ни на минуту не отстают. Раньше мы и половину положенного не отдыхали, а теперь… пожалуйста. Пусть этот дарендеец, который продал часы нашему Хаджи, век горя не знает. Иншаллах!
А Хаджи важничает:
— Доведется мне встретить дарендейца, непременно десятку ему добавлю. Нечестно это — за ишака такие часы получить. Видать, в большой нужде был человек.
Поденщики:
— Твоя правда, Хаджи, надо добавить. Зачем грех на душу брать.
Короче говоря, до самого последнего дня сверкала на груди у Хаджи серебряная цепочка с часами. До самого последнего дня Хаджи охотно отвечал любому, кто справлялся о времени.
Но как только отошел бедняга, уж где только не искали эти самые настоящие саркисовские — и в карманах, и под кушаком, и в сундуке, — нигде не нашли. Как в воду канули.
Узкая тропинка, словно тонкая пуповина, связывает деревню с ближним сосновым лесом.
До рассвета еще далеко. Мать спит. Ибрагим поднялся, стараясь не шуметь, ополоснул лицо из деревянной кружки. На доске для хлеба мать с вечера оставила ему еду, он прихватил узелок и шагнул за порог. Деревня как будто вымерла, только на самой окраине, надрывая душу, выла собака. В отдалении плескалось море.
За последними домами начался крутой подъем. На полпути мальчик остановился, медленно, лениво потянулся, несколько мгновений постоял, переводя дух. В самом конце подъема задержался снова. Вновь его опалил нестерпимый жар пугающих мыслей. Его ведь могут увидеть, даже сейчас, в кромешной мгле, и поэтому надо стать как можно незаметней. Обернулся, посмотрел на деревню. Она спала, как всегда перед рассветом: безмолвно, безлюдно и неподвижно. Распласталась без единого дымка, мертвецким сном спала.
Скоро загорланят петухи. Тогда-то и очнется от сна деревня. Рыбаки уйдут в море за рыбой, ловцы губок — на свой промысел. Нельзя здесь задерживаться, нельзя помечтать вволю. Его могут увидеть, и тогда… О, тогда не взгляды — ножи вонзятся в него, располосуют, искромсают. Всякий, у кого есть глаза, будет метать в него убийственные взгляды. Бежать! Бежать! Бежа-а-ать!
Читать дальше