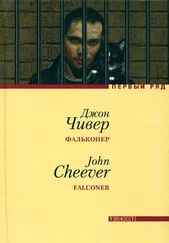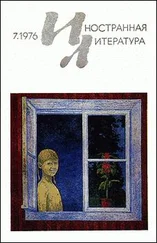— Я могу вам быть чем-нибудь полезна?
— Мне необходимо одно: уверенность, что никто нам не помешает.
— За этим я прослежу.
Нэлли спустилась вниз и налила себе виски. Негр вошел к Тони в комнату.
— Меня зовут свами Рутуола, — представился он. — Я пришел помочь вам, во всяком случае я надеюсь, что мне это удастся. Но сперва я должен вам объяснить, отчего у меня такой глаз. Когда мне было пятнадцать, я поддался роковому порыву и украл велосипед. Это был ярко-красный английский велосипед фирмы «Швинн» с тремя скоростями. Я не мог совладать с соблазном. Я спрятал велосипед в подвале. Когда отец его обнаружил, он меня избил, заставил меня возвратить его владельцу, и сам со мной пошел. Отец мальчика, у которого я украл велосипед, не хотел возбуждать против меня дело, но мои родители настояли на том, чтобы меня привлекли к суду. Они боялись, что, если меня не накажут, я вырасту вором. Это были добрые, мягкосердечные люди; теперь мне кажется, я их понимаю: они просто боялись всего на свете. Меня приговорили к шести месяцам исправительной колонии в Ливертауне. Среди заключенных, как это часто бывает, была группа гангстеров, образовавших нечто вроде государства в тюремном государстве. Они были чрезвычайно жестоки, и чтобы оградить себя, я притворился хромым. Увидев, что я хромаю, рассудил я, они, быть может, меня пощадят. Но однажды, направляясь в столовую, я забылся и пошел своей обычной походкой, а они, поняв, что я их провел, зверски меня избили. В результате я потерял левый глаз и провалялся две недели в больнице. Я мог бы всего этого вам не рассказывать, но дело в том, что люди слушают не только ушами, но и глазами и обычно наблюдают за выражением глаз собеседника. Поскольку я наполовину лишен возможности пользоваться этим средством коммуникации, людям бывает трудно найти со мной контакт. Когда мы с вами будем беседовать, я сяду где-нибудь в тени, чтобы вас не смущал мой испорченный глаз, но прежде всего мне хотелось бы немного убрать у вас в комнате. Благочестие — сестра чистоты, так, кажется, говорится? Или, может быть, наоборот.
— Кажется, наоборот, — сказал Тони.
В комнате повсюду — на спинках стульев и на ручках дверей — была развешана одежда Тони. Одна створка гардероба была открыта. Свами все собрал, разыскал в гардеробе мешок для прачечной и сунул в него белье. Пиджак он одел на вешалку, в туфли вставил распорки, затем прикрыл шкаф и смахнул пыль с кресел.
— Ну вот, кажется, стало немного лучше, правда? — сказал он. — Теперь мне хотелось бы покурить здесь благовониями, если вы не возражаете.
— Делайте все, что хотите. Но вообще-то я не люблю благовоний. Да и всякую парфюмерию. Я никогда не пользуюсь лосьоном после бритья. Мне нравится, когда от девушек пахнет духами, но только я не люблю, чтобы ими пахло в комнате. Не люблю запах парфюмерных магазинов.
— Я вас понимаю, — сказал Рутуола. — Но мое благовоние без приторности и очень слабое. Сандаловое дерево. У него очень чистый запах.
Он вынул из кармана тонкую палочку и зажег ее.
— Ну хорошо, — сказал Тони.
— Я родился в Балтиморе, — начал Рутуола. — Родители мои были люди бедные, впрочем, я не стану томить вас перечислением всех невзгод, какие выпали на долю моей расы, — вы это знаете и так. Я кончил восемь классов и прекрасно читаю, но с арифметикой у меня слабо. Отец мой был столяром, и когда меня выпустили из колонии на поруки, я стал ему помогать. Затем, много позднее, я поехал в Нью-Йорк и устроился работать на Центральном вокзале. Работа была не из завидных. Пять дней в неделю, по восемь часов в день, я чистил уборные. Мне приходилось мыть полы и прочее, но большая часть времени уходила у меня на то, чтобы смывать надписи со стен. Стены там белые, и на них очень удобно писать, так что к субботе все стены бывали покрыты надписями. Вначале меня это очень смущало, а потом я понял, что человек пишет на стенах оттого, что не может не писать. Ему неприятно, когда его писания стирают, словно таким образом стирается какая-то часть его самого. Иные даже вырезали слова ножом на дверях. Ненормальными этих людей не назовешь — их ведь тысячи, и я понял все одиночество, всю неутоленность людского рода. Однажды ночью, вернее, под утро — дело было в четвертом часу — я протирал тряпкой пол. Ко мне вдруг подходит человек и говорит: «Спасите меня, я, кажется, умираю». На нем был дорогой костюм, а лицо у него было пепельно-серое. Я сказал, что обычно в это время полицейский делает обход, и предложил сбегать наверх и попросить его вызвать карету «скорой помощи». Но он сказал: «Ах, не оставляйте меня одного, я не хочу умирать в одиночестве!» Тогда я сказал: «Пойдемте вместе в зал ожидания, я вам помогу». Я подхватил его под руку, и мы медленно поднялись… Он все время стонал. В зале ожидания полицейского не оказалось, вообще никого не было, и он сказал, что не может больше стоять, и мы вместе сели на какую-то ступеньку. В зале было уныло, холодно и голо, но на одной стене висела большая ярко освещенная реклама фотоаппаратов. На ней были изображены мужчина, женщина и двое детей на пляже — у какого-то озера, кажется, — а позади, в отдалении — горы, покрытые снегом. Это была красивая, радостная картина, и она казалась еще красивее оттого, что кругом все было такое голое, холодное и безрадостное. Я сказал ему, чтобы он смотрел на гору — быть может, сказал я, это поможет вам отвлечься от ваших страданий. И еще я ему сказал: «Давайте помолимся», — но он сказал, что не помнит ни одной молитвы, и я вдруг сообразил, что и сам почти никаких молитв не знаю, и тогда я сказал: «Давайте придумаем молитву», и начал говорить: «Мужество, мужество, мужество», и произносил подряд одно это слово; вскоре и он стал повторять за мной: «Мужество, мужество…» Тогда я стал произносить другие слова, и он повторял их, пока наконец не объявил, что чувствует себя лучше и возьмет такси, поедет в какую-нибудь гостиницу и попробует поспать. Мы с ним простились, и больше я никогда его не видел. Недели через две-три после этой встречи я приехал сюда и стал работать у своего двоюродного брата, мистера Перчема. Он плотник.
Читать дальше