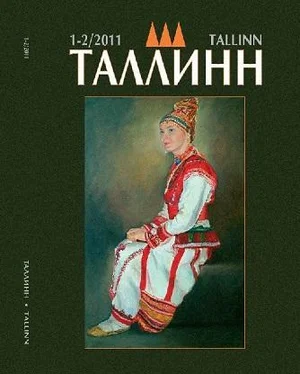Но я продолжала дружить с Эриком, то есть нещадно его эксплуатировать. Я нарочно забрасывала мячик в кусты, чтобы Эрик бежал через всю площадку и его доставал. Он терпел, когда я называла его «грязным» и «дураком недоразвитым». Он безропотно отдавал мне половину своего сладкого. Мне однажды стало стыдно, но я подумала: «У бабки его и так варенья много!» и за милую душу уплела Эриков кисель со взбитыми сливками.
Мы ходили, взявшись за руки, и его вши почему-то не переползали на меня. Иногда я позволяла ему целовать меня в щёчку, тогда мы оба зажмуривались: это казалось и сладким, и страшным. На щеке у меня оставался липкий след: похоже было, что Эрик наелся варенья на всю оставшуюся жизнь.
Однажды Милка сказала, что раз я влюблена в Эрика, то, значит, я такая же психованная, как он, и нас скоро обоих посадят в психушку и никогда не выпустят. И ещё она почему-то сказала, что нас, может, и не в дурку посадят, а пошлют на самую настоящую войну, в Америку, и там убьют. Я ничего не ответила, кинулась на Милку и расцарапала ей лицо. Воспитательницы тогда опять вызывали моих родителей и возмущались: «Какой у вас злой ребёнок!»
А Ленка Карасёва придумала, что я вообще бесстыжая и перед всеми мальчишками юбочку поднимаю. Девчонки тогда на меня пальцами показывали и гудели: «Ууу, бессовестная какая!», но я не плакала. А Карасёву вскоре дети побили за то, что она ябедничала и требовала у всех конфет: «Не принесёшь конфетку — убью! И «коровок» этих дурацких больше не носите мне». Ленка чувствовала себя безнаказанной: её бабка работала в нашем детсаду нянечкой.
И всё осталось по-прежнему. Серёжка смешил меня, и из-за него меня ставили в угол. Его зелёные глазки тогда совсем прищуривались, и эти щёлочки сочились торжеством. Однажды Серёжка разрешил мне поцеловать себя: «Ну ладно, только быстро, и не расслюнивай». Он, как всегда, был снисходителен и высокомерен. А Эрик тихо ревновал, может быть, даже плакал.
А потом мы пошли в школу, и я потеряла Эрика из виду на много лет.
Встретились мы в восемьдесят шестом, когда я была на первом курсе. В филологической общаге тогда тусовался художник-неформал Харри, и не просто тусовался, а прятался от ментов — ему шили статью за тунеядство. Харри рассказывал, как к нему домой пришёл милиционер, увидел на стене репродукцию Вийральта и спросил: «Это что — вы сами рисовали?» Харри ответил: «Да, я сам», на что милиционер заметил: «Да, ничего так себе — только больно уж мрачно.»
А ещё Харри был бисексуалом. Тогда это слово было не в ходу, и все говорили: «Ну, тот, который и с мужиками, и с бабами». Как-то раз я зашла к своей однокурснице Сашке. У неё сидел Харри с каким-то незнакомым парнем, совсем юным, лет восемнадцати, не больше. У мальчика этого были большие карие глаза с длиннющими ресницами и девичий румянец на щеках. И когда Сашка сказала: «Это Эрик», я стала вспоминать, где это я раньше его видела.
И Эрик тогда пристально посмотрел на меня:
— Привет, мы, кажется, знакомы.
Теперь он говорил по-русски с лёгким акцентом, но акцентом не эстонским, а близким к литовскому.
— Ты Эрик из детского сада?
— Ну да. Я несколько раз тебя потом видел на улице, но ты меня не узнала.
И Эрик рассказал, что его мать лишили родительских прав, а бабка умерла, когда ему было девять лет (позже он рассказал, что «она подряд три банки варенья слопала, потом вот так воздух глотнула и упала»). И тогда Эрика отправили в детдом, но оттуда его скоро взяла на воспитание одна бездетная пара: он — эстонец, она — литовка. Учился Эрик в эстонской школе, ушёл после восьмого класса: «Так, надоело». Потом я узнала, что на самом деле его выгнали — после того, как он появился на школьном вечере в женской блузке и с косметикой на лице.
У Эрика и сейчас были накрашены ресницы. Ему это очень шло — больше, чем многим женщинам.
— Что ты сейчас делаешь, Эрик?
— Да так, ничего. Живу.
После школы Эрик учился в ПТУ, бросил. Сейчас он работал сторожем. С приёмными родителями он рассорился и жил то у одного, то у другого богемного любовника. Сейчас вот прибился к Харри. Эрик научился жить на двадцать копеек в день. В гости к студентам он ходил не ради угощения, но если ему предлагали поесть, он не отказывался. И подарки (язык не повернулся бы назвать их «подачками»!) принимал так же — со сдержанной благодарностью.
Книг Эрик не читал: «А зачем они? В них ведь об одном и том же. Скучно. Я, если мне нужно, лучше сам что-нибудь напишу. Или нарисую».
Читать дальше