«Незрелому состоянию капиталистического производства, – пишет Энгельс, – незрелым классовым отношениям соответствовали и незрелые теории. Решение общественных задач, еще скрытое в неразвитых экономических отношениях, приходилось выдумывать из головы… Эти новые социальные системы заранее были обречены на то, чтобы оставаться утопиями, и чем больше разрабатывались они в подробностях, тем дальше они должны были уноситься в область чистой фантазии. Установив это, мы не будем задерживаться больше ни минуты на этой стороне вопроса, ныне целиком принадлежащего прошлому. Предоставим литературным лавочникам а-ля Дюринг самодовольно перетряхивать эти, в настоящее время кажущиеся только забавными, фантазии и любоваться трезвостью своего собственного образа мысли по сравнению с подобным «сумасбродством»».
Мы последуем этому умному совету Энгельса и не будем «любоваться трезвостью своего собственного образа мыслей», основанных на опыте человека конца XX века, по сравнению с фантазиями человека, который умер в конце XIX. Но странная опытность литературного лавочника Дюринга, жившего в XIX веке, относительно проблем социалистической литературы нам весьма интересна. Так же как Энгельс отрицал эффективность политического насилия в экономике, он отрицал и эффективность такого насилия в литературе. А ведь под авторским правом, назойливо проповедуемым Дюрингом, и таинственным для Энгельса «вознаграждением за труд» как раз понимается такое насилие в литературе. Авторское право, по Дюрингу, – это инструмент государства, это тот же человек со шпагой, стоящий над социалистической литературой, как он стоит и над социалистическим распределением. Так же как освобожденная от евреев и оевреившихся периодическая печать сможет процветать лишь под надзором арийско-христианской цензуры и свободной можно будет назвать лишь печать, которая проповедует взгляды философов действительности, а несвободной ту, которая этим взглядам противоречит, – так же и литература может приобрести новые социалистические формы лишь под надзором авторского права г-на Дюринга… Впрочем, Дюринг и в вопросах культуры, как и в вопросах экономики не так прост, как это кажется Энгельсу. Он понимает, что культуру невозможно подчинить «философии действительности» без того, чтоб, во-первых, полностью не изменить форму общественного образования как в школе, так и в университете, а во-вторых, полностью не устранить из жизни общества религию. Энгельс пишет: «Школе будущего он (Дюринг) уделяет по меньшей мере столько же внимания, сколько и авторскому праву. У него имеется окончательно разработанный план школ и университетов не только для обозримого будущего, но и для переходного периода».
Мы знаем, что на высшую ступень своей школы и университета Дюринг ставит «философию действительности», которая, по ироническим словам Энгельса, «будет служить ядром всего знания» (но Энгельс не предполагал, что эту «философию действительности» могут назвать «марксизмом»). На низшую ступень Дюринг ставит филологию. «Причем, – заявляет Дюринг, – мертвые языки совершенно отпадают, а изучение живых иностранных языков останется как нечто второстепенное. Для достижения действительно образовательного результата должна служить материя и форма родного языка».
«Национальная ограниченность современных людей, – пишет по этому поводу Энгельс, – все еще слишком космополитична для г-на Дюринга. Он хочет уничтожить и те два рычага, которые в современном мире дают хотя бы некоторую возможность стать выше ограниченной национальной точки зрения. Он хочет упразднить знание древних языков, открывающих, по крайней мере для получивших классическое образование людей различных национальностей, общий им более широкий горизонт… Зато грамматика родного языка должна стать предметом основательной зубрежки… Но раз г-н Дюринг вычеркивает из своего учебного плана всю современную историческую грамматику, то для обучения языку у него остается только старомодная, препарированная в стиле старой филологии техническая грамматика со всей ее казуистикой и произвольностью, обусловленными отсутствием исторического фундамента… Ясно, что мы имеем дело с филологом, никогда ничего не слыхавшим об историческом языкознании».
Так пишет Энгельс. Но Дюринг, применяя и в филологии универсальную теорию насилия, создает в 1876 году свое новое социалистическое, вернее, социал-националистическое представление по вопросам языкознания. Покончив с социалистической филологией и подытожив ее социалистическим языкознанием, Дюринг принимается за религию. Здесь он стоит на еще более радикальных позициях, чем самые радикальные его последователи, социалистические антисемиты, желающие превратить христианскую религию в расовую. Дюринг религию в социалитате вообще воспрещает: «В свободном обществе не должно быть никакого культа, ибо каждый его член выше первобытного детского представления о том, что позади природы или над ней обитают такие существа, на которые можно воздействовать жертвами или молитвами. Правильно понятая социалитарная система должна поэтому упразднять все элементы культа».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
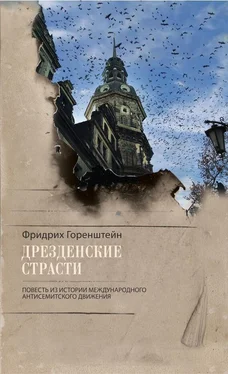
![Фридрих Горенштейн - Шампанское с желчью [Авторский сборник]](/books/142121/fridrih-gorenshtejn-shampanskoe-s-zhelchyu-avtorskij-thumb.webp)

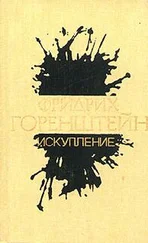
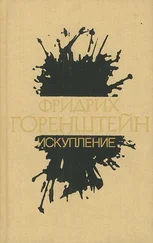
![Фридрих Горенштейн - Дом с башенкой [Журнальный вариант]](/books/427190/fridrih-gorenshtejn-dom-s-bashenkoj-zhurnalnyj-vari-thumb.webp)