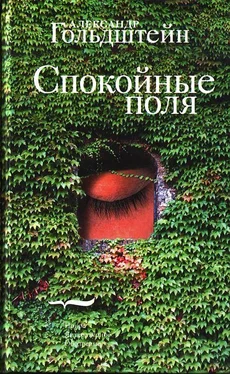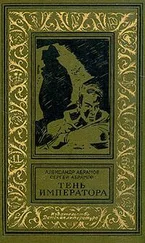На сей раз кипел Дом офицеров, именуемый прежде Армянское человеколюбивое общество, на дневных, до глубокого затемна заседаниях. Толпы просили билетик, вожделели о контрамарке. Только и слышалось «метод», «сильное мышление», «поля возможностей», в самых странных порою устах, как недолго спустя те же уста возносили подвиг шахматного чемпиона. Синеглазые девушки, синеглазые юноши, взявшись за руки, ходили свободно вдоль улиц, было много приезжих, стройных телом, извилистых разумом. Олег захвачен, в орбите, чуть не в ближайшем к изобретателю круге. Их видят вместе — приятно утомленный, как тот же гросс после партии (или, понизив сравненье, как блицевый мастер, как витолиньш, чепукайтис, умытый гамбитною скорострельностью), фундатор нисходит в компании соговорников, своей дружеской свиты, по отлогим ступеням Богоявленского спуска, и морской с нефтяною подстежкою ветер колышет его седину, треплет космы и патлы ребят в ярких джемперах, джинсовых куртках. Здесь же Татуля, беспечная, на каблучках пританцовывающая, в кислотно раскрашенной юбке, в хипповой мохрящейся кофте. Синяя с белыми буквами лента на лбу: «ответственность за все происходящее — вот чувство свободного человека. бердяев» меня ужаснула б сегодня, это ж гробовая православная лента, молитва заупокоя во лбу, и пятна, и пятна, западающе-распухающие притемнения воска, пергамент и желтоватая прозелень, идиотка, сейчас же сорви, нельзя навлекать, как нельзя помечать у себя на груди место чужого операционного шрама — а тогда ничто никому не навеяло, плещется юбка, стучат каблучки. Расхлябанно бредут смеясь мимо журчащих, отделанных под яшму фонтанов. Гипсовые лебеди выгибают шеи в плоском бассейне, с трех сторон окаймленном кустами боярышника. Бассейн с подсиненной водой, отражением октября, последний раз в этом году голубого и синего. алеша джапаридзе, алеша в поддевке из меди позеленел, обдутый из водометов. Олег и Татуля, у них началось, она мыслит по методу, скоро ей забеременеть. К методу я непричастен, мне все равно, но, встретив Олега, знакомлюсь по-взрослому, родителям вопреки, сердитому не на шутку отцу.
Немудрено, что знакомлюсь. Город, насколько возможно при старом режиме, распахнут для встреч в эти дни. В скверах, на площадях и проспектах вновь после долгой разлуки встречаются люди, сходятся словно бы невзначай — законно, с гостями за общим столом. Ранний октябрь, солнце сквозит меж ветвей. Гостям накрывают столы, гости пируют, пируют хозяева. Баранина вымочена в белом вине, жарится, обложенная луком, на углях. Курганы плова, мясным и куриным соком политые, рассыпчатые горы риса на блюдах в человечий обхват. В свернутых трубочкою скатерках лаваша ноздреватая брынза и масляный твердый брусок. Плошки с черной икрой осетров возле редиса в зелени кресс-салата и кинзы. Двуострым ножом рассечен винный улей граната; срез как бы чуть-чуть задымлен и вспенен, подернут. Коньяк для домашности в чайничках, тоже и чай — в обжигающих, яро вспотевших. Ломти арбуза, инжир, виноград подле сластей испеченных, орехами начиненных, медовым сиропом текущих. Особенно же хорош был шафран, его оранжевую, пастозную желтизну, в ином излучении света подобную красноватому золоту миниатюр, гости, чаруясь, слушали на базаре, и будто бы Фира рисовала им «забегания», после стольких лет будто бы прорицал ее карандаш. Не думаю, я сейчас более чем когда-либо убежден, что стал последним объектом насильственно замороженной страсти.
Пиры отшумели, гости разъехались, предоставив нас будням. Кто-то усвоил оседлость, носит кого-то нелегкая. Татуля приспела младенцем, Олег со мною прогуливался, подкидывал самиздат. Чего ему стоило улизнуть от недреманной, алчущей безотлучного повиновенья супруги, ей — обнаружить измену, пусть судят товарищи по оружию. Мне хватило ее беспорядочных выпадов, его неуклюжего отпирательства, и если бы не любовь, не вершина любовная, сероглазая Анна в коляске и колыбели, они бы не выдержали, ни за что.
Арка Двенадцатой конной, туркестанский триумф над Энвером-пашой. От презренного волка Кемаля, от губителя с ядом и льдом на клыках — к Ленину, на съезд угнетенных народов, порыжелая стенограмма которого как раковина морская хранит громобойное восхожденье Энверово на трибуну: повести революцию в глубь, взять Стамбул, Тегеран, Калькутту, Мадрас; от Ленина, разуверившись — к «басмачам», бунтовал, проповедовал, дрался, изрублен. Здание съезда прибрежно, итальянский мраморно-лестничный особняк, прибежище сада и вертоградаря, римские статуи в нишах не по-римски теплы. Эспланада, фонтаны, напротив яхт-клуба корзиночка с кремом, кофейня «Жемчужина» на воде. Кусок недостроенных Адриановых стен, декорация в подражание вечным образам, строительство захирело (сочтено было вредным) с расстрелом и осуждением басилевса, усатого толстяка-сибарита в тужурке, предлагавшего официально открыть заведенный de facto на Ольгинской дом свиданий, но Кремль отказал. Под платаном на Ольгинской возвращаю Шаламова, мне безумно понравилось, поражен описанием правды.
Читать дальше