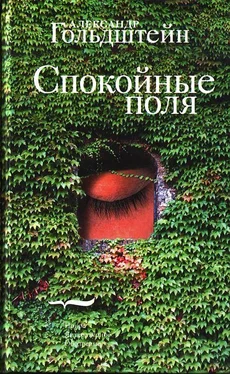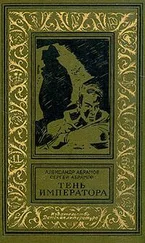Все это шло от вкуса и позыва к жизненно-напряженному, к ультра-биологическому, сказал бы русский философ, так же, как и отчасти порнографические главы Сашиных книг, добившие его несчастного родителя, с трудом снесшего открывшийся позор фаллоцентричности и чуть ли не стеснявшегося высунуть нос из дому, хотя похоть, и я на этом настаиваю, была свойственна не только пишущему, но и самому письму.
В Риме мы пускались, допустим, по следам Пазолини, чья незаурядная телесная сейсмичность (отсталое витальное существо, заметил бы доктор Рудольф Штейнер), только и ожидавшая, чтоб нажали на спусковое устройство, и была бы разрядка и титанические сдвиги пород, Сашу очень занимала. Как же, мэтр, знаменитость, а все ловил и насиловал на пляже своих уличных Аккатоне, представить только, как международно увенчанный гений проносится с языком на плече по грязному песку в мусоросборнике, в Остии, и валит кого-то немыто-невзрачного, невзирая на сопротивление.
Было в нем понимание того, о чем писал с проникновенностью и со знанием дела нашумевший французский философ, который, прочитав лекцию в Колледж де франс, мчался ближе к вечеру на Страсбур Сен-Дени домогаться магрибских подростков. Получив в зубы отказ, собственно, только ему и нужный, он далее отмечал в дневнике — мы недооцениваем силу наслаждения, которой обладает перверсия — гомосексуализм, гашиш (ныне это выглядит несколько старомодным, ситуацию спасают лишь калибр и регалии автора). Гашиш мы, кстати, как-то опробовали — накурились, и, главное, нагальванизировались от ужаса, что сейчас будет опоссум с конским хвостом и высшие метафизические пируэты щелемордых и рукокрылых, с неясными психическими отложениями в остатке для субъектов астенического типа, но по психоделическим передатчикам не дошло ничего, кроме бешеного аппетита.
Саша с чрезвычайной осторожностью и юродивой деликатностью относился к твари, особенно твари мельчайшей — по-моему, предполагал, как один южноамериканский диктатор, кажется, сальвадорский Мартинос, что муравья жальче, чем человека, поскольку «муравей не воскреснет». Впрочем, он и на человека не очень рассчитывал, да и воскрешение его устраивало не в каком-нибудь лучистом облике (либо грибном облаке), а только вместе с внутренней проштудированной библиотекой со всем, от нашептывающих Рильке и Клюева и до второстепенных почитаемых им авторов, которых он по-человечески жалел и оплакивал (ведь их ненужную прозу даже лошадь не захотела услышать), и, может, с соловьем на цепочке и пьяненькой, из бронзы, тройкой котов.
Если что-либо не выносил, то жестокости — испытывал физиологическое отвращение к одному своему сокурснику, сотоварищу по бакинскому университету, рубившему головы голубям после лекций о гуманистических аспектах творчества тюркских ашугов. Но был снисходителен к тому, что нежный французский классик подглядывал из-под одеяла, как гильотинируют крысу (с катарсисом, надо думать, в остатке). Размежевание проходило по разлому писательства, ибо не может быть единой этики для вороны и археоптерикса, равных лишь размерами и полетом.
Обычай писательской монструозности, изящных и изощренных патологий души вызывал в нем интерес и сочувствие, понятый как компенсация за шаг в дебри диалектики нарушения, за пионерскую работу в диких местах сознания, где гуроны свободно дерут скальпы с соседнего племени, а «Вестерн Юнион» еще не поставил свои телеграфные столбы. Ему импонировал невнятный, плавающий между оградительными буями пол Виржинии Вульф, который ей самой не был до конца прояснен и понятен, и казался притягательным могучий садизм с парным мазохизмом автора «Пентесилеи» (впрочем, в случае Клейста не обойтись словарем психиатрических штампов). Он одобрял самоубийство Пьера Дрие ла Рошеля, в чистоте, среди книг, в подходящее время и в продолжение творчества, и восхищался сумасшедшими сроками жизни (тоже вид извращения) неистребимого автора «Излучений», которого не убила никакая война.
Несомненно, он не стал бы стрелять по толпе, как призывали сюрреалисты, полагавшие — он об этом много писал, — самую стрельбу простейшим творческим актом (а тот, кто не в состоянии отважиться, якобы сам должен подставиться под револьверное дуло); но если б стрелял Бретон, он нашел бы для него оправдания.
Его понимание литературы казалось мне абсолютным, как если б его взгляд был взглядом Александрийской или какой-то более новой библиотеки, пропускавшей каждый текст сквозь очень умудренные фильтры и, для оценки, устраивавшей многоступенчатый осмос, где на месте мембраны — вековой книжный запас.
Читать дальше