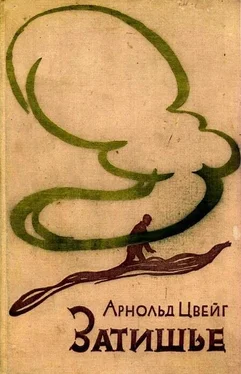И оба собеседника Бертина с изумлением увидели, как, откинувшись на спинку стула и прижав к стене голову с высоко вскинутым подбородком, он закрыл глаза. Казалось, он весь ушел в свое тогдашнее «я» и, поглощенный воспоминаниями, переживал свой рассказ.
— Всю жизнь, — продолжал он, и голос его теперь звучал так, словно его никто не слушал, словно он говорил сам с собой, — всю жизнь, сколько себя помню, я искал уединения. Как часто во время школьных каникул, лежа в высокой ржи, сидя на опушке леса, читая в маленькой каморке, которую мне выделили наконец дома, я чувствовал, что существо мое тянется к тишине, к природе, во всяком случае, не к людской толпе. Студенческие годы я прожил в пригородах, где можно ходить без шапки; я был счастлив, что вокруг мало людей, что не надо ни с кем раскланиваться, что я один со своими мыслями и настроениями, с тем, что созревало во мне и выливалось потом в стихотворение или в рисунок, которые я заносил в свой дневник. В школе и университете у меня были друзья, веселые парни, с ними легко говорилось и спорилось. Позднее, после множества воображаемых романов, я обогатил свой мир союзом с девушкой, в которой нашел подругу, предназначенную судьбой. Меня утомляли даже слушатели в аудиториях. Бесшумную работу в библиотеках я предпочитал семинарам, где коллеги всегда могли вовлечь меня в разговор. Никогда я не слонялся по кафе и увеселительным заведениям, где танцуют и шумно развлекаются. В берлинском Луна-парке я бывал не чаще, чем на ярмарке в Мюнхене или в копенгагенском Тиволи. Одиночество никогда не тяготило меня, чуткий слух и беспредельный мир мысли делали его незаметным.
— И вот, с апреля 1915 года, — Бертин выпрямился, точно проснувшись, — я живу в непрестанно кипящей суете, я подчинен ритму и желаниям человеческой массы, массы, от которой я не отгораживаюсь барьером высокомерия, ибо никогда не почитал себя выше ее. Наоборот, я приветствовал общество моих новых товарищей. Оно было как бы плодотворным дополнением к моей прежней жизни, и я настолько не отделял себя от массы, что интеллигенты отвернулись от меня за симпатию к рабочим, рабочие же добрых три месяца, если не больше, подозревали во мне шпиона, полагали, что я подлаживаюсь к ним, хочу стать «любимчиком» роты. Лишь мало-помалу все сгладилось. Но такой длительный и напряженный процесс приспособления, превращения в частицу массы, должен же был наконец снова уступить место некоторой тишине. Я многому за это время научился, но наступил черед покою, уединенной жизни с женой, с моими книгами. Из отпуска я вернулся бы в свою роту душевно омытым, освеженным. Разумеется, о теплом местечке в Берлине, которое сможет избавить меня от фронта, о работе в каком-нибудь пресс-бюро, я не помышлял. Военная служба за письменным столом, обработка общественного мнения — все это не для меня. Сюда, в нестроевую роту, забросила меня судьба, здесь я служу, и точка. Но силы мои были на исходе, и поэтому мне хотелось поехать в отпуск, как только моя невеста обегает все необходимые инстанции и получит тот ворох бумажек, который необходим для женитьбы. Мы одолели бы сопротивление ее семьи, пробыли бы вместе две недели, а там…
— Ну вот, камрад, — сказал Бруно Науман, ополаскивая мне лицо теплой водой, — вот ты и настоящий нестроевик, и никакой Глинский не сможет к тебе придраться.
А теперь представьте себе мое удивление: в наумановском маленьком зеркальце я увидел чье-то чужое лицо. Лоб, правда, знакомый, загорелый лоб с двумя крупными выпуклостями, нос тоже очень знакомый, да и глаза, через толстые стекла очков ласково глядящие на мир, я узнал. Но все остальное — щеки, рот, подбородок — показалось мне чужим, искаженным, обезображенным. По-видимому, лицо это привыкло к тому, что его подпирает борода. Волосы ведь тоже часть внешнего и внутреннего облика человека. Я изуродовал себя. Что у меня за вид! В общем, какой-то жалкий, даже растерянный. И Бруно Науман, конечно, тоже это видит: он парикмахер, ему знакомы тысячи человеческих масок. Он тотчас же по-своему истолковывает выражение моего лица. Ведь он знал меня давно, еще со времени сербских походов, и служил он в том же взводе, что и я.
— Ты поступил как порядочный человек, — говорит он, встряхивая полотенце и таким образом просушивая его, — а за это, брат, надо расплачиваться. Так вот, послушай, что я тебе скажу и что я говорю не всякому. Дома в моей парикмахерской хозяйничает теперь жена, а она, друг, на все руки мастер. Если начальство взъестся на тебя, приходи ко мне посоветоваться. Первый же отпускник захватит с собой письмецо, а моя старуха вложит это письмецо в конверт с адресом: «Военное министерство, Лейпцигштрассе», наклеит пятипфенниговую марку и бросит в ящик. Это самый прямой адрес. Иначе, дорогой мой, все твои прошения попадут к тем же мерзавцам и застрянут. Как известно, ворон ворону глаз не выклюет. Но смотри, молчок!
Читать дальше