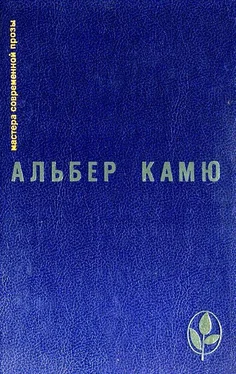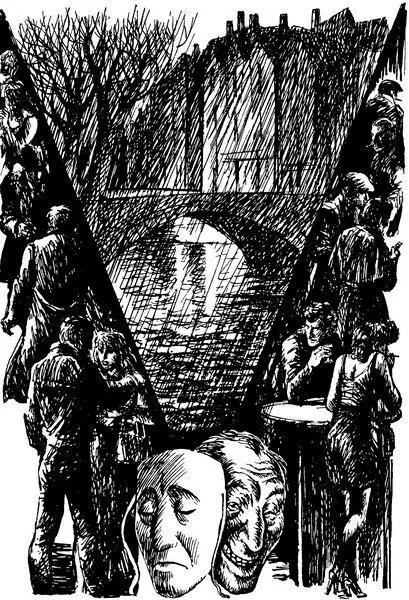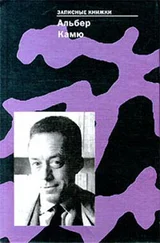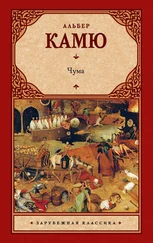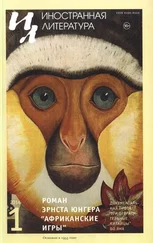Над темным портом взлетели первые ракеты официального увеселения. Весь город приветствовал их глухими и протяжными криками. Коттар, Тарру, та или те, кого любил Риэ и кого он потерял, все, мертвые или преступные, были забыты. Старик астматик прав — люди всегда одни и те же. Но в этом-то их сила, в этом-то их невиновность, и Риэ чувствовал, что вопреки своей боли в этом он с ними. В небе теперь беспрерывно распускались многоцветные фонтаны фейерверка, и появление каждого встречал раскатистый, крепнувший раз от раза крик, долетавший сюда на террасу, и тут-то доктор Риэ решил написать эту историю, которая оканчивается здесь, написать для того, чтобы не уподобиться молчальникам, свидетельствовать в пользу зачумленных, чтобы хоть память оставить о несправедливости и насилии, совершенных над ними, да просто для того, чтобы сказать о том, чему учит тебя година бедствий: есть больше оснований восхищаться людьми, чем презирать их.
Но вместе с тем он понимал, что эта хроника не может стать историей окончательной победы. А может она быть лишь свидетельством того, что следовало совершить и что, без сомнения, обязаны совершать все люди вопреки страху с его не знающим устали оружием, вопреки их личным терзаниям, обязаны совершать все люди, которые за невозможностью стать святыми и отказываясь принять бедствие пытаются быть целителями.
И в самом деле, вслушиваясь в радостные клики, идущие из центра города, Риэ вспомнил, что любая радость находится под угрозой. Ибо он знал то, чего не ведала эта ликующая толпа и о чем можно прочесть в книжках, — что микроб чумы никогда не умирает, никогда не исчезает, что он может десятилетиями спать где-нибудь в завитушках мебели или в стопке белья, что он терпеливо ждет своего часа в спальне, в подвале, в чемодане, в носовых платках и в бумагах и что, возможно, придет на горе и в поучение людям такой день, когда чума пробудит крыс и пошлет их околевать на улицы счастливого города.
Падение [6] La Chute. Paris, 1956. Перевод Н. Немчиновой
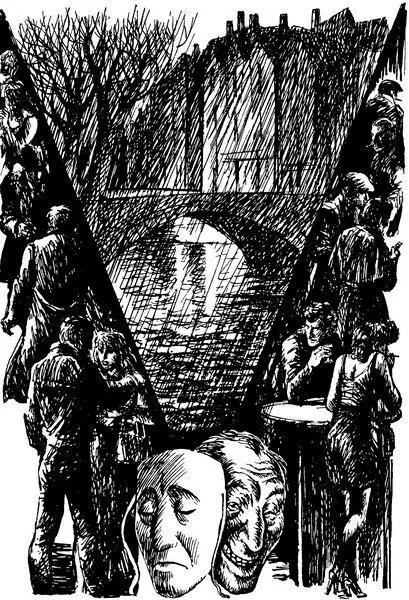
Надеюсь, вы не сочтете навязчивостью, если я предложу помочь вам? Боюсь, иначе вы не столкуетесь с почтенным гориллой, ведающим судьбами сего заведения. Ведь он говорит только по-голландски. И если вы не разрешите мне выступить в защиту ваших интересов, он не догадается, что вам угодно выпить джину. Ну вот, кажется, он понял меня: эти кивки головой должны означать, что мои аргументы убедили его. Видите, повернулся и пошел за бутылкой, даже поспешает с разумной степенностью. Вам повезло: он не зарычал. Если он отвергает заказ, то ему достаточно зарычать — никто не посмеет настаивать. Считаться только со своим настроением — это привилегия крупных зверей. Разрешите откланяться, очень рад был оказать вам услугу. Благодарю вас, благодарю. С удовольствием бы принял приглашение, но не хочу надоедать. Вы чересчур добры. Так я поставлю свой стаканчик рядом с вашим?
Вы правы, его безмолвие ошеломляет. Оно подобно молчанию, царящему в девственных лесах, — молчанию грозному, как пушка, заряженная до самого жерла. Порой я удивляюсь, что наш молчаливый друг так упорно пренебрегает языками цивилизованных стран. Ведь его ремесло состоит в том, чтобы принимать моряков всех национальностей в этом амстердамском баре, который он, неизвестно, почему, назвал «Мехико-Сити». При таких обязанностях его невежество весьма неудобно, как вы полагаете? Вообразите себе, что первобытный человек попал в Вавилонскую башню и вынужден жить там. Ведь он страдал бы: кругом все чужие. Но этот кабатчик нисколько не чувствует себя изгнанником, идет своей дорожкой, его ничем не проймешь. Одной из немногих фраз, которая сорвалась при мне с его уст, он провозгласил следующее положение: «Хочешь — соглашайся, а не то к черту убирайся». С кем следовало соглашаться, кому к черту убираться? Несомненно, наш друг имел в виду самого себя.
Признаюсь, меня привлекают столь цельные натуры. Когда по обязанностям своей профессии или по призванию много размышляешь о сущности человеческой, случается испытывать тоску по приматам. У них по крайней мере нет задних мыслей.
У нашего хозяина, по правде сказать, есть кое-какие задние мысли, но очень смутные.
Поскольку он не понимает того, что говорится вокруг, у него в характере развилась недоверчивость. Поэтому он и держится с угрюмой важностью, словно возымел наконец подозрение, что не все идет гладко в человеческом обществе. При такой его настроенности довольно трудно заводить с ним разговоры, не касающиеся его ремесла. А вот посмотрите на заднюю стену — видите, прямо над головой хозяина на обоях менее выцветший прямоугольник, как будто там прежде висела картина. И действительно, там была картина, и притом замечательная, настоящий шедевр. Так вот я присутствовал при том, как наш кабатчик приобрел ее и на моих же глазах продал. В обоих случаях он проявил одинаковую недоверчивость: несколько недель обдумывал сделку. В этом отношении жизнь в человеческом обществе, надо признать, несколько испортила первоначальную простоту его натуры.
Читать дальше