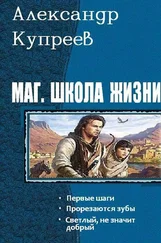Рядом со мной стонал Платтель — и вдруг продемонстрировал мне всю серьезность положения. Из кармана пиджака он выудил листок, заблаговременно исписанный вдоль и поперек бисерным почерком, и начал переносить из него в свою тетрадку следующий пассаж:
«Словно зачарованные волшебным словом, мы видим гармоничную картину царственного появления Гёте, окруженного кольцом прекрасных, воспитанных, умных и просвещенных дам, связанных с ним узами любви, дружбы, непринужденного духовного общения и образующих его нетленную свиту…» Пауза. Платтель остановился и задумался. Потом продолжил, уже от себя: «…Общение с женщинами стало для него особым родом деятельности, которому он был обязан теми интенсивными усилиями, которым его образованность, его гений и его разносторонние интересы были, в свою очередь, столь многим…» — тут он попытался найти синоним к слову «обязаны», но не сумел. Это предложение показалось мне на удивление знакомым. Вычеркнув вторую половину фразы (с недостающей частью составного сказуемого), Платтель заерзал на стуле. Эй, повернулся он ко мне, скажи еще раз, как звали того герцога. По крайней мере, он, Платтель, не позволял себе впасть в уныние из-за очередной неудачи. Карл Август, прошептал я. На мгновение в классе воцарилась полная тишина, и было слышно, как пара дождевых капель упала на жестяной подоконник. Сколько времени, тихо спросил Платтель, Гёте валандался с первой и второй частями «Фауста»? Я так же тихо задал встречный вопрос: что я за это получу? Мне уже в то время было ясно как божий день, что глупо делать что-то без гонорара, если имеются люди, способные тебе заплатить. Сказал же Гёте в «Торквато Тассо»: «Таланты образуются в покое, / Характеры — среди житейских бурь»; да он и сам умел за себя постоять и не забывал о собственной выгоде — в отличие от бедного барона. Бутылку «шантре», шепнул Платтель. Я потребовал для ровного счета еще две пачки «Юноны» и потом ответил: пятьдесят лет. Платтель посмотрел на меня так, будто я плюнул на его хаотичный текст, и сказал, что я несу ахинею. Лажа, услышал я его бормотание, ни одна свинья не станет тратить пятьдесят лет, чтобы написать такую хреновину.
У Платтеля был скверный характер. Хотя с «Фаустом» я его не обманул, он в итоге зажал и «шантре», и обе пачки «Юноны». Мне снова вспомнился помешанный на красоте барон. Чувство прекрасного не всегда помогает в делах, предпринимателю оно даже скорее вредит; эта закономерность сказалась на судьбе причудливых деловых проектов барона, за которые ему явно не стоило браться, по крайней мере до 1950 года. С каждым провалом очередного делового начинания, никак не желавшего превращаться в «куклу», барон становился все более подавленным и жалким. Моя сладкая птичка, часто повторял он некоей вдове, я бы охотно помогал тебе сохранять твою божественную тучность, тем более что она радует и мою скромную персону, но вот только как? Перо Платтеля снова застопорилось; видимо, линия герцога тоже оказалась тупиковой. Я вывел печатными буквами на своем листке: Гёте и демон любовной страсти, работа или удовольствие? Будущий джентльмен-преступник стрельнул правым глазом в мою тетрадку и, глубоко вздохнув, написал: если взглянуть на обе вышеупомянутые сентенции с точки зрения гётевского гения любовной страсти, то, возможно, такие понятия, как «работа», «дело» и «кукла», придется интерпретировать совсем по-иному…
Как мы и уговаривались, неотразимая Ангелина подняла руку и звонким голоском попросила разрешения сходить в туалет; минут через десять я присоединился к ней. Форманек украдкой растянул губы в дьявольской усмешке. Он знал, что мы никогда не списываем друг у друга, а к нашей взаимной симпатии относился со снисходительной иронией. Под лестницей я пожаловался Ангелине, что до сих пор даже не представляю, с чего начать. Она посоветовала мне рассмотреть под микроскопом жизнь самого Гёте, то есть его хитроумное конструирование собственной жизни, его знакомства, дружеские связи и все из этого вытекающее. Со своей стороны она хотела, чтобы я подсказал ей кое-какие даты, начиная с итальянского путешествия, — те, которые помнил. Пока мы совещались, я рассматривал ее лицо: мелкие белые зубы, пигментацию губ, красивый сильный язык; поэтому в классе мне не удалось вспомнить ни слова из того, что она говорила.
Гёте, писал Платтель, двигая челюстями, был невероятно усидчивым, как можно видеть по полному собранию его сочинений, даже если не принимать во внимание дневников, личных записей и громадного количества писем. Писание не составляло для него никакой работы, иначе, наверное, он бы столько не написал, — и он интересовался всем: стихами, которых за свою жизнь насочинял целые горы, древними растениями, учением о цвете (здесь он перешел дорогу Шопенгауэру), френологией, греческими женскими статуями и еще многим другим. Он и в своих любовных связях был очень осмотрителен и всегда умел оценивать их как бы со стороны. Когда умерла Кристиана Вульпиус, он долго оставался в постели, потому что стал бояться болезней и смерти.
Читать дальше