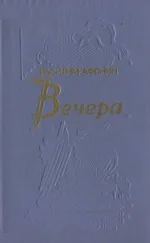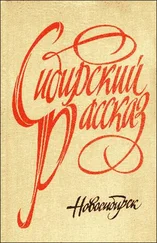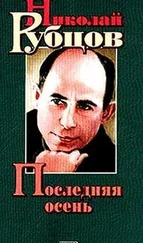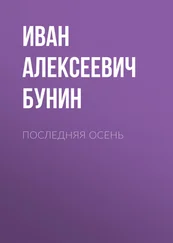Но ночевать остался, не хотелось обижать стариков. Постелили в горенке. Старуха скоро уснула. Савелий пришел ко мне, сел рядом, закурил. Мы вспомнили многое, проговорив до полуночи. Годы, когда я жил здесь, юргинских мужиков и баб, трехдневную свадьбу у Хропачевых, Пашку Шубина, переплясавшего всех на этой свадьбе, его жену, красавицу Татьяну, рыбную ловлю на шегарских омутах, тетеревиную охоту по осени, Староконную дорогу на клюквенные болота. Мы перебивали друг друга и радовались, что память сохранила имена людей, некогда живших здесь, их привычки и любимые слова, названия мест вокруг деревни, где каждое из них будит столько воспоминаний…
Так я и жил в Юрге. Из соседней избы принес брошенный стол, табурет. Взял у Савелия топор и два дня заготавливал дрова, таская в ограду жерди изгороди. Что ни начни делать — сразу воспоминания, и, разбирая изгородь, я вспомнил осинник, где рубил жерди, и дорогу к нему. Как шел туда в резиновых сапогах, разбрызгивая по сенокосам лужи. Был май, теплынь, в голых пока перелесках кричали дрозды, в кочках, залитых водой, цвела желтая куриная слепота. Как рубил колья и прутья, а потом возил все к огороду на длинных роспусках. Часть кольев выпало таловых, некоторые из них принялись, пустили в ту же весну побеги, и теперь, поддерживая жерди, в четырех местах вокруг огорода росли раскидистые таловые кусты. Жаль было ломать изгородь, будто губил что-то живое, частичку былой жизни. Хотелось освободиться от этого чувства, но не мог.
Огород сплошь зарос коноплей, и, отыскивая погреб, вспомнил погожую осень, последнюю осень отца, как копали мы втроем картошку — он, мать и я — и сколько ее уродилось в тот год.
Стоял сентябрь, теплые дни. С утра я вышел один, чтобы выдернуть из лунок, убрать в сторону ботву, а когда пришли старики, стал вилами подкапывать лупки, носить в ведрах и ссыпать в погреб собранную картошку. Опершись на вилы передохнуть, я замечал, как отец часто и ласково смотрел и а мать, на меня, а потом, позабыв о нас и о работе, подняв голову, долго глядел за огороды, крайние избы, желтеющие уже перелески. Лицо его было строгим и удивленным несколько, но страха я на нем не находил. Видимо, чувствовал что-то и прощался. А в феврале мы похоронили его…
В углу ограды сохранилась кухня, низенькая печурка. «Кашеварка», как называла ее мать. Она топила эту почку ежедневно с наступлением тепла и до первых осенних дождей. Рядом стол — четыре вкопанных столбика, покрытых по перекладинам обрезками досок. Вечерами я кипятил на плите чай или подогревал что-либо в кастрюле.
Савелий, видя мое упрямство, уже не настаивал жить у них, попросил только, чтобы три раза в день, как и полагается человеку, приходил я к ним есть. Я согласился. Но, просыпаясь поздно, опаздывал к завтраку, случалось, пропускал ужин, обедать являлся, ежедневно заказывая хозяйке суп. Приходив вечером проведать меня, старик приносил поесть то банку простокваши, то вареную куриную ногу или пирогов с луком и яйцами, которые так часто пекла мать.
Вечер. Мы сидим на крыльце, курим, подолгу молчим. Обо всем, кажется, переговорили. Лицо у старика спокойное. — Он расспрашивает о моей жизни, о городах, где мне доводилось бывать, не жалею ли, что учился одному делу, а занимаюсь другим.
— Пойду, — говорит он, вставая. — Старуха заждалась, поди. Отлучусь куда, так она все окна проглядит. Раньше к соседям ходила, а теперь три двора, а все в разных концах.
Ушел. Я хожу по ограде, шебурша сеном. Вчера, найдя в сарае литовку, выкосил траву, утром перевернул ряды, они подсохли, шумят под ногой, и запах возле избы как в лугах в пору сенокоса. Время отдыхать, но боязно заходить в избу, страшно оставаться в ней до утра. Две ночи подряд мне снился отец. Стуча костылями, он выходил из горницы, высокий, худой, в расстегнутой нижней рубахе навыпуск и босой. Остановившись в проеме дверей, расставив костыли, склонив голову и жутко осклабясь, он пристально смотрел на меня.
— А-а-а! — просыпался я с криком, чувствуя, как трясутся руки и поддает сердце. Одевался, стараясь не смотреть в горницу, и выходил в ограду, полную лунного света. Этот свет спасал меня. Сидя на колодезном срубе, курил, поглядывая на сенные двери. Успокоясь, закрывал: калитку и до утра бродил по деревне, отдыхая на высоких открытых местах. В следующую ночь, стыдясь себя, поставил в изголовье ружье, а когда, затушив свечу, при которой читал, уснул, сразу же услышал стук костылей и придушенный крик матери:
Читать дальше