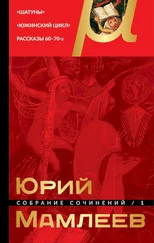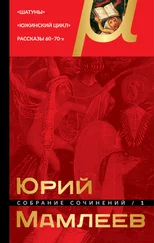– На вот, написал… Только не надо сейчас… Потом, дома… Читала, плакала…
…Поверху написано: „Калина красная“, а пониже: „Писал сценарий 27 октября – 15 ноября 1972 года. Москва (больница)“». («Смена», Ленинград, 1979, 24 июля).
Сценарий, переработанный в повесть, появился в журнале «Наш современник», (1973, № 4). Откликов публикация не вызвала. Впоследствии повесть была издана в «Избранных произведениях» (1975), неоднократно переиздавалась.
Кинофильм, завершенный к началу 1974 года, вышел на экраны весной того же года и вызвал поистине всенародный отклик. Ныне он признан самой важной кинокартиной В. М. Шукшина, его творческим завещанием. Главный приз VII Всесоюзного кинофестиваля в Баку в 1974 году, огромное количество рецензий (число их уже в 1974 году приблизилось к полутораста), поток зрительских писем, хлынувший сразу после премьеры, – это лишь самое начало того признания, которое вывело фильм «Калина красная» на уровень советской киноклассики, – начало это В. М. Шукшин успел увидеть.
Киноповесть оказалась, таким образом, в тени кинофильма. Пытаясь проанализировать эту ситуацию и, в частности, понять тот факт, что публикация повести не вызвала откликов, тогда как фильм мгновенно оказался в центре внимания, журнал «Вопросы литературы» провел по обоим произведениям дискуссию, пригласив выступить в ней преимущественно писателей и литературных критиков. В дискуссии участвовали Б. Рунин, Г. Бакланов, С. Залыгин, В. Баранов, Л. Аннинский, К. Ваншенкин и В. Кисунько. У фильма, как и у повести, нашлись противники: К. Ваншенкин говорил о «просчетах», о «сентиментальности многих эпизодов», о «банальности персонажей», об «умозрительности концепции». В. Баранов упрекал автора за «театральные эффекты», за «мелодраматизм» мотивировок и за то, что «сентиментально-умилительные интонации Егора мало вяжутся с подлинно крестьянским мироощущением человека-труженика на земле».
С. Залыгин, отвечая критикам, сказал: «…нам пора уже отдать себе отчет в том, что в лице Шукшина мы встречаемся с уникальным явлением нашего искусства… Нужно об этом помнить При оценке и изучении его творчества… Без этого неизбежно возникает ошибка: произведение отнюдь не рядовое, выдающееся мы оцениваем по меркам, к которым привыкли, рассматривая вещи проходные, стандартные, Шукшин в отличие от всех нас дает нам образ, обладающий своею собственной, а не нашей логикой, своими, а не нашими понятиями, – в этом и заключается его большое художественное открытие…»
Материалы дискуссии были показаны В. М. Шукшину, и он написал по ним статью «Возражения по существу», которая была опубликована вместе с другими материалами дискуссии в июльском номере «Вопросов литературы» за 1974 год. Из тактических соображений В. М. Шукшин говорит в статье «только о фильме», а киноповесть желает «оставить в покое», однако речь идет, по существу, о жизненной концепции автора, очень важной для понимания его замысла в обоих случаях. Приводим этот автокомментарий:
«Думаю, мне стоит говорить только о фильме, а киноповесть оставить в покое, потому что путь от литературы в кино – путь необратимый. Неважно, случилась тут потеря или обнаружены новые ценности, – нельзя от фильма вернуться к литературе и получить то же самое, что было сперва. Пусть попробует самый что ни на есть опытный и талантливый литератор записать фильмы Чаплина, и пусть это будет так же смешно и умно, как смешны и умны фильмы, – не будет так. Это разные вещи, как и разные средства. Литература богаче в средствах, но только как литература; кино – особый вид искусства и потому требует своего суда. Что касается моего случая, то, насколько мне известно, киноповесть в свое время не вызвала никаких споров, споры вызвал фильм – есть смысл на нем и остановиться.
Меня, конечно, встревожила оценка фильма К. Ваншенкиным и В. Барановым, но не убила. Я остановился, подумал – не нашел, что здесь следует приходить в отчаяние. Допустим, упреке сентиментальности и мелодраматизме. Я не имею права сказать, что Ваншенкин здесь ошибается, но я могу думать, что особенности нашего с ним жизненного опыта таковы, что позволяют нам шагать весьма и весьма параллельно, нигде не соприкасаясь, не догадываясь ни о чем сокровенном у другого. Тут ничего обидного нет, можно жить вполне мирно, и я сейчас очень осторожно выбираю слова, чтобы не показалось, что я обиделся или что хочу обидеть за «несправедливое» истолкование моей работы. Но все же мысленно я адресовался к другим людям. Я думал так, и думал, что это-то и составит другую сторону жизни характера героя, скрытую.
Читать дальше


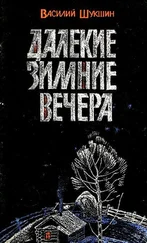
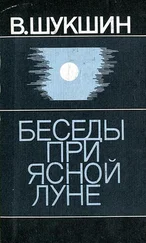
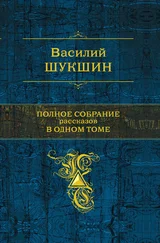
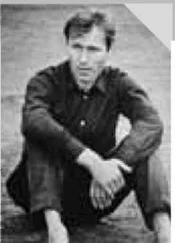
![Василий Шукшин - Избранные произведения в одном томе [Компиляция, сетевое издание]](/books/426281/vasilij-shukshin-izbrannye-proizvedeniya-v-odnom-tome-thumb.webp)