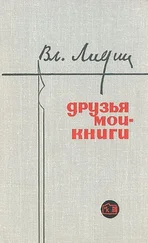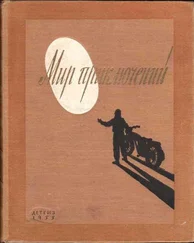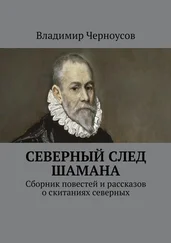И мы пошли дальше, мы долго стояли у начищенной витрины гастрономического магазина; наконец, я вошёл. Свежие опилки на цветных плитках пола; язычески-белоснежный приказчик в оранжевом нимбе сыров сказал равнодушно:
— Собак нельзя вводить, гражданин.
Я спросил:
— Сколько стоит фунт масла?
Он ответил. Я спросил ещё:
— А швейцарский сыр у вас есть?
— Есть.
Тогда я сказал:
— Мне ничего не нужно. У меня совершенно нет денег. Но, может быть, вы купите у меня собаку. Если её подкормить, это будет необыкновенный сторож для магазина. У вас, наверно, найдутся обрезки. Она умна, как человек. У неё нет ни одной дурной привычки. Она деликатна, она никогда не просит есть.
Он медленно вышел из-за прилавка, он взял меня за плечо и холодно вытолкал прочь. Предлагай я пустые бутылки, ломаный кирпич, наконец, попрошайничай, — он белоснежно-язычески уронил бы мне слово, но я предлагал паршивую собаку в чесотке — разве мог он понять, что я предлагаю живую неповторимую душу, единственную во вселенной, — он холодно смотрел, мимо, толкая меня прочь. Восхитительное вдохновение, незнаемую волю — я обязан этим ему, его несмываемому белоснежному презрению. Я зашёл к сапожнику напротив, долбившему молоточком подошву; колокольчик очень приятно звякнул над дверью. Я спросил:
— Вы сапожник Муратов?
Он сказал вопросительно:
— Я.
— Так вот, не купите ли вы у меня эту собаку, — я был очаровательно развязен. — Отличный пёс, неизвестной породы, зачем вам колокольчик над дверью, она будет лаять на каждого приходящего, если только немного её подкормить.
Сапожник очень серьёзно покачал головой; он ответил почти задушевно:
— Самим бы с голоду не сдохнуть, куда ещё собаку. Да и живём мы тесно.
Он был очень искренен, он почти с сожалением смотрел на обглоданные чесоткой бока: у него были синие полевые глаза с нечеловечески трудной заботой. Тогда я сказал ещё:
— Дело, конечно, не в собаке. Мне просто нужно починить башмаки, вы принимаете работу? Я занесу их к вечеру.
Опять стукнул звоночек, опять был асфальтовый угол, электрическая рожа часов; вдоль бульвара, как фокстерьеры, неслись весенние « А». Мы зашли ещё в булочную. Пьерро гильотинировал хлеба: лицо его было в муке, в правой руке поблескивала гильотина, чёрные, белые головы летели. Я сказал:
— Я продаю эту собаку, не нужна ли она для вашей булочной, я бы отдал её очень недорого, даже в обмен на хлеб.
Гильотина застыла в воздухе. Он был слишком шумен, этот человек с трагическим лицом Пьерро, он хохотал, приседая, он стал красным сквозь муку, он лёг грудью на прилавок и мотал головой. Я сказал:
— Что же тут смешного? Если вам не правите собака, надо просто сказать об этом.
Тогда он обозлился; он вдруг пребольно запустил в меня твёрдой горбушкой, он закричал:
— Ступай-ка подальше, дармоед, собачник… подлюга…
Он породил во мне дикое вдохновение, мускулы мои были сжаты, где-то низко на веках лежал мир со всем своим солнцем, весной и звонками трамваев. Я зашёл ещё в магазин музыкальных инструментов, в слесарную мастерскую, в проходной двор — люди пожимали плечами, свирепели, смеялись, весело щурились — кто мог я быть: аферист или сумасшедший, никто не подумал, что это лишь человек — шалый от голода, никто носком сапога не приласкал подыхающую собаку. К вечеру мы зашли в часовой магазин. Был уже сумрак, уютно свиристели взад-вперед маятники часов. От низкой лампы лежал золотой полукруг. Часовщик поднял свою жёлторепную широкую лысину, он был нездорово жёлт, подозрителен, бесшумен — в мягких матерчатых туфлях. Он спросил подозрительно:
— Что угодно?
Я сказал:
— Не купите ли вы у меня собаку? Это необыкновенное существо. Она очень исхудала, правда, я бы отдал её дёшево, всего за кусок хлеба.
Он мог бы вынести мне кусок хлеба, и мы бы ушли. Мы бы так же тихо ушли, как пришли сюда, — но человек вдруг затрясся, он низко наклонил свою лысину, он зарычал:
— Дурак, бродяга… вон! Я покажу тебе, как воровать… ты воровать пришёл со своей паршивой собакой… вон!
Он приседал, трясся, и вдруг такой холод, такое великолепное спокойствие, такая смертная душевная тишина пронзили меня. Я холодно огляделся, я вытянул вперед руку, поднял с прилавка тяжёлые бронзовые часы — Помона в бронзовых фруктах — и ровно, быстро, два раза ударил в самую середину жёлторепной лысины. Человек присел, приседал, опустился за прилавок; очень часто, очень бойко дренькали в тишине маятники. На столике в золотом круге лампы блестело золото, лежали цветные камешки. Я снял со стены простые кухонные часы с тройкой на циферблате, с двумя тяжёлыми гирями; я аккуратно свернул цепочки и вышел на улицу. В проходном дворе я обменял их на полкаравая хлеба. Я сидел на карнизе, глотал тёплые куски, на глазах у меня были слёзы от сытости; корки догладывала собака, она держала их меж передних лап и урчала от счастья.
Читать дальше
![Владимир Лидин Рассказы о двадцатом годе [Сборник] обложка книги](/books/84026/vladimir-lidin-rasskazy-o-dvadcatom-gode-sbornik-cover.webp)